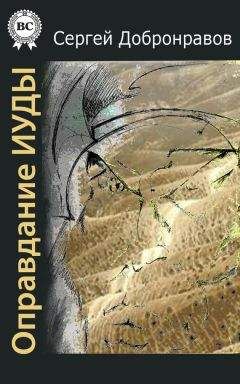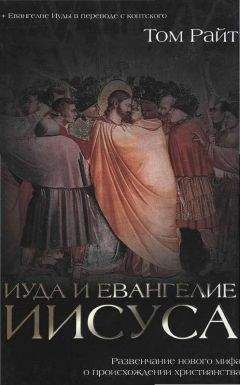Сергей Добронравов
Оправдание Иуды
– Решили пересказать Библию?
– Ни в коей мере. Не вижу смысла в тысячный раз пересказывать саму легенду. Мне интересна предыстория встречи, собственно, один её день… Рановато им ещё встречаться, коса позже наскочит на камень…
– Рановато? Что Вы имеете в виду? – То, что героям предоставлена возможность нажить опыт. Я усматриваю в этом большое подспорье. Прежде, чем скрещивать клинки, их закаляют. А что неизбежнее прочего крепит или ломает характер, как не житейство? Но рано или поздно они замкнутся накоротко, они обречены
– Но почему обречены? – Потому что Иудея слишком мала для этих двоих… Потому, что верность и предательство – основа бытия со времён неолита. Без одного не бывает другого. Иисус и Иуда равноправны и разнополярны… один Теза, другой – Антитеза…
– И кто же у Вас Теза? – Не у Вас, а у нас. Как правило, тот, кто не Антитеза. Хотя, разумеется, бывают исключения, куда без них…
– Вы, что, увлекаетесь мистикой? – Вы так спрашиваете, как будто я увлекаюсь поеданием полуживых и полусырых маленьких кроликов… Мистики в этой истории – ноль. Живые люди поступают так, как считают нужным.
– Хотите сокрушить христианские устои? – Меня не интересует крушение устоев.
– Зачем же тогда стулья ломать? – Интересно более остального, как эпоха перемен берёт любого, живущего в ней, в заложники. То есть за горло. Я попытался озвучить малую толику из того ряда, в котором Ученик может предать Учителя. Печаль фишки в том, что по тем же самым причинам можно не предавать… а ряд этот бесконечен… Имела ли место верность? И было ли предательство? И если было, то можно ли считать предательством веру в собственной правоте?
– Так всё-таки вера имела место?
– Имела, не имела… не суть… Бесспорно одно, чем более ты ИИСУС и чем талантливей и самобытней твой ИУДА , тем меньше выбора вам обоим предоставит свихнувшаяся от книжников, фарисеев и римских оккупантов Иудея. По праву войны.
– Повесть не случайно посвящена Леониду Андрееву?…
– Пленил! Классик! Герой надел хламиду и шпарит на злобу дня. Как будто не минул век, не мелькнули тысячелетия. Убить – не убить, украсть – не украсть, предать – не предать. На эту тему ломали стулья и копья, как развели первые костры… Но по настоящему треск стал слышен в век Просвещения, когда чуть ослаб контроль иезуитов и французы первыми придумали, что Разум спасает Душу…
– Не боитесь, что тема набила оскомину? – Это Вы про Просвещение? Каюсь, не набила. И пишу я для тех, кому не набила. Их круг широк или узок, но это родные сердца, соратники… Вот Вы, например, как считаете? Кто больше отдал идее, Прометей или его друг Гефест, которому поручили распять титана на скале?
– Но, наверное, не удивлю Вас, если скажу – оба… – Спасибо! Вы меня приятно не удивили. Многие ещё со школы помнят, что трудолюбивый Гефест был кузнецом. Так сказать, пролетарская косточка, инструмент старших богов. Но немногие знают, что Кузнец переводится на еврейский, как Каин… в мировой истории нет случайных минут, идей и поступков. История, это стопка стальных листов, и между днями не просунуть иголки… той самой, с ушком…
– Но почему всё-таки Иуда! – Потому что ушко то же самое. Иуда, как человек, равен Иисусу. Если хотите, по модулю… Мне интересен не апостол, но будущий апостол. Полу-апостол. Раз Иисус полубог-получеловек, значит его ученики, полуапостолы-получеловеки… И каждый переспросил: «Не я ли, равви, не я ли?»
– Но почему всё-таки предал? За каких-то 30 сребреников… – Каких-то… во-первых, это хорошие деньги. Стоимость месячного труда подёнщика. Во-вторых, предать можно и за копейку. Достаточно оглянуться вокруг… а можно и даром. Как фишка ляжет… Как прочитаете, так и ляжет. Как ляжет, так и напишите. Как напишите, так и проживёте… Удачного Вам чтения…
– В смысле, хорошего?
– В смысле, удачного.
В Галилее, на северной кайме Генисаретского озера, в Капернауме, на единственной площади начался вечер. Не так, чтобы давно, но жара уже отступила, и тени стали длиннее владельцев. И пришли бархатные часы.
И как пришли, по утрамбованной веками и копытами площади пусть негромко, но угрожающе застелился гул, приминая травинки, редкие и пожухлые, и впитывал в себя гул пыль и мелкий рыночный сор.
На дальней стороне площади была видна синагога, отличаемая от других более казистыми стенами, да Давидовой звездой над высокими дверьми из дорогого и прочного чёрного дерева. Но глухи были двери синагоги. Не они источали гул…
На ближней стороне площади устроены были каменные водоносы, коновязи и торговые ряды. И в последнем глубже иных врос в землю большущий, тяжеленный амбар, сложенный из нездешних гранитных кубов хорошего тёса. Поговаривали, что кубы те задёшево набрали из стен спесивого Тира, что поверг в разорение Искандер Македонец.
Особняком высился амбар и в надёжной тени его боковой стены добрые горожане, пришедшие в этот вечер на площадь, привязали нескольких осликов со своей поклажой.
А пришедшие были из тех, кто чтит Закон явно и не только в Субботу. В стену амбара была вделана дверь, запертая сейчас на тяжёлую балку, и любой из Капернаума или пришлый, хоть бы раз подошедший близко, примечал, что срублена дверь из того же дерева, что и двери синаноги, а стало быть, имела к ней отношение…
Но тиха была, обычно скрипучая дверь. Не она источала гул. И ослики, равнодушные либо глухие, пока не слышали ничего…
Но вот гул усилился, как прибой в грозовую ночь, и чёрной волной захлестнуло из-за угла. И одному ослику, чей возраст был мал, показалось, что, быть может, его зовут?
Ну конечно, зовут!
Чтобы накормить…
Он радостно дёрнулся, и всегда согласные с ним, весело звякнули бубенчики на уздечке, но, та, прикрученная к столбу, мигом уровняла ослика с остальными вьючными тварями, либо сытыми, либо глухими…
За углом, напротив передней, южной стены амбара, собралась большая, до сотни, толпа мужчин. Передняя стена была плотно и ровно замазана битой глиной, давно не беленной. Но вряд ли в том была нужда. Щедрое солнце согревало и выбеливало всё живое и мёртвое в Капернауме.
У основания амбара, там, где стена вросла в землю, и неотличима была от земли её принявшей, всё было в грязно-бурых подтёках и вмятинах. Косо освещённые пологими, ласковыми лучами вмятины эти, хоть и были неглубоки, но казались угольно-чёрными.
А может быть, правда, что не было у них дна? Не находился досужий, даже среди рыночных попрошаек, с цепкими и грязными пальцами, кому пришло бы в голову замерять эти впадины.
Не любили вползать в них и ящерки, неподвижно гревшие свои нежные голубоватые тельца в уютно-жёлтом вечернем припёке амбарной стены. И в этот неспешный и ясный вечер, как и в любой другой, ящерки не обращали внимания на толпу. И не разделяли страстей, её охвативших…
А толпой верховодили двое, стоящие в первом ряду. Любому видно, что фарисеи. Ревнители, отличаемые от остальных плащами с пурпурно-голубыми кистями на прямоугольных концах.
С повязками на лбу с вышитыми словами Закона…
И неотличимы были эти двое друг от друга, как соратники по борьбе, как кровные погодки, закованные в броню общей цели. Возродить, удержать, спаять. На вечные времена.
За кисть, оковной хваткой, они держали своих подопечных. Левый фарисей не отпускал старого торговца с морщинистым и озлобленным лицом, правый же – молодого растерянного писца с медной чернильницей на поясе.
Стоящие сзади вытягивали шеи, пытаясь разглядеть этих четверых. Толпа нетерпеливо переминалась, и не было в ней ни одного приветливого лица.
И гул нетерпеливо усиливался, сплетённый из злобы и любопытства. И то и дело кто-нибудь оглядывался к дверям синагоги…
Пять, шесть рядов было в этой толпе, но все хотели быть ближе к Закону. И поэтому за спинами фарисеев не прекращалась глухая, упорная толчея. Особенно сильно доставалось одному оборванцу. Тщедушное сложение своё он замещал вертлявостью, сопя яростно и обиженно. В лице же его, остром носике, чёрных бусинках вместо глаз, и в редких, жёлтых зубах было что-то явное от грызуна.
И лишь оборачивались фарисеи назад, оборванец тут же пытался поймать их ищущий взор. И, поймав, торопливо взвизгивал:
– Смерть блудодее!
Повод, родивший толпу, на краткий промежуток объединил его с добрыми и почтенными горожанами, и он излучал довольство, радуясь редкой возможности доказать остальным своё существование.
Любопытство крутило его головой во все стороны, так хотелось видеть сразу и ревнителей, и синагогу, и амбар. Но был он сложен тщедушно, и пусть постепенно, но неуклонно его выталкивали на край. И как ни тщился оборванец, противостоять напору не смог.