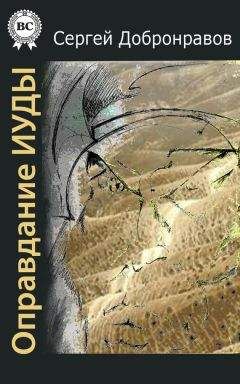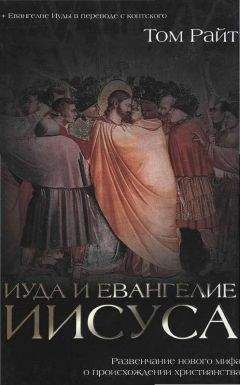Торговца снесло в угол комнаты. Выбитый светильник покатился по полу, расплёскивая масло. Но масла было на самом дне, так экономен был Цадок, а проще – прижимист…
…и пламя не занялось…
Чужак исчез в дверном проёме, угольным мазом чиркнул по стене его плащ, испарилась тень…
Но, по-прежнему, мирно горел светильник на столике. Захария, обронивший свитки и забывший о них, не видел ничего, кроме женщины. Он не верил тому, что открылось ему. Беззвучно шевелил он губами и что-то яростно доказывал сам себе. Проживший немного, никогда прежде не видел он взрослой женской наготы. Он впал в транс, застигнув момент обоюдной любви, он замер, скованный страхом и восхищением.
– Ревекка… – прохрипел из угла Цадок.
Не вставая, на карачках, торговец пополз к тахте…
А Захария уже открыто, по-мужски, любовался наготой Ревекки, безвозвратно повзрослев в эти мгновения. Парой жарких костров рябил светильник в его цепких, познавших числа, глазах.
– …в заветной глубине сердца схоронила она бурный поток… с Цадоком же… не поделилась ни каплей! …
…так, наверное, думал Захария, бедный писец, тоскующий по уютной домашней любви, несбыточной для него, малоимущего. Так глядел он на распахнутую её, отторгнувшую стыд, наготу…
Но если бы он умел перевести в слова свою тоску по супружеству! По млеющему жару женских коленей, что распластала для законного мужа сладкая, душная ночь…
…по влажным словам со сбитым, терпким дыханием, стекающим в темноте в ухо любимого вместе с горячей женской слюной…
Захария молчал. Грохотало в его сердце. Рушились скалы на тёмной его стороне, неподвластной чужому взору, и там, в пляшущем смерче, распадались миры…
Цадок, торговец шерстью и тканями, несносный хозяин Захарии, боднув своего писца под колени, отпихнул и достиг, наконец, тахты. Захария, покачнувшись, сделал шаг в сторону, и смерч, унесший его, чтобы разрушить, принёс его, собранного обратно.
Тяжело дыша, опершись на край тахты, кряхтя, поднялся на ноги старый торговец и законный муж прекрасной Ревекки, дочери бедного суконщика Иохима, обменявшего старшую дочь на долговую расписку.
Ревекка закрыла и защитила собою всех младших, и мать, и отца. И заточила в яму дочернего долга свою мятежную душу, не познавшую женской любви. Не достигнув тринадцати лет, похоронила она в той же яме своё жаркое тело… И впереди, кроме сухой, пустой черноты, Ревекка не ждала ничего…
Законный муж поднялся на ноги и стащил Ревекку за волосы с тахты. Браслет откатился по ковру, пропели подвески, застонала Ревека… …и Захария, мгновенно склонившись, рванул вперёд, растопырив ладонь, схватил золотую добычу, сунул в рукав…
Цадок не заметил, до писца ли ему?
Глухо, злобно рыча, позабыв речь, он дёргал и таскал Ревекку за волосы, раскачивал из стороны в сторону, пытаясь выпластать жену на полу…
Она молча и упорно выворачивалась из его рук…
И вывернулась, отпихнула! И собралась в жаркий комочек, вжавшись спиной в край тахты.
Цадок медленно приходил в себя…
Вот уже умерил дыхание, оправил одежду…
И чем больше он успокаивался, тем сильнее сжималась Ревекка. Приступ бесстрашия миновал. Затопило отчаяние. Из-под спутанных волос, закутанная в них по пояс, загнанным диким зверьком, попавшим в силки, она следила за каждым движением мужа.
Цадок рассматривал её с ненавистью. И вдруг из этой ненависти выплеснула похоть, ненасытная, дикая сласть. Так плеснуло, что пошатнулся нестойкий в житействе Захария. Но Цадок не повернул к писцу головы.
Цадок ещё молчал. Руки его в старческих пятнах ещё немного дрожали, но крепко стиснутый беззубый рот уже превратился в узкую, спёкшуюся слюной, известковую щель.
Щель приоткрылась, и рабски вздрогнул Захария, узнав хозяйские интонации. Упал сверху вниз на сжавшуюся Ревекку надменный, трескучий голос:
– Кто он?
По полу разлилась стылая злоба, прокралась и втиснулась во все закоулки, смочила все ворсинки ковра, заползла под тахту, где ничего не нашла, выползла и лизнула шершавым своим, ледяным языком точённую лодыжку Ревекки.
Та вздрогнула, и подобрав под себя ноги, обхватила колени, прижала к груди, сжала так, что побелели суставы пальцев. И стало ясно, что разодрать их, растащить, раздвинуть можно только, выломав.
И задралась при этом рубашка Ревекки, открыв бедро, гладкое, как полированный кедр.
Захария прикипел взглядом к её бедру, пригвождённый, приговорённый этим мягким, матовым блеском. Он запахнул дыхание… никогда не забудет он этой ночи! В этот миг он постиг проклятие и блаженство брака. Он жалел Ревекку. Жалел Цадока, сына Нелева, купившего себе молодую жену шесть лет назад. Жалел себя. И любил всех!
Она не произносила ни звука. Законный муж приподнял бровь, удивлённо, вкрадчиво, угрожающе… – Ты не ответишь?
Она глянула на Захарию, и только тут Цадок спохватился. Забормотал торопливо, и принялся выталкивать писца за дверь. – Иди, Захария… иди!
Но Захария не слышал. Он не мог оторвать взгляда от сияния, исходившего от женского бедра. Цадок тормошил Захарию и втискивал ему в руки не особо полный кошель. Писец покачивался, как опитый сонным зельем. Остервенело Цадок затряс писца и тот, наконец, пришёл в себя. Взглянул на кошель, отдёрнул руки, замотал головой. – Нет! Нет!
Захария развернулся и, шатаясь, пошёл прочь. Вслед ему понёсся свистящий шепот.
– Захария!
Шёпот достиг и ударил в спину. Писца пошатнуло, он дёргано обернулся.
– Молчи, заклинаю тебя!..
Писец кивнул, и Цадок торопливо притворил за ним двери. Медленно обернулся, ощерил впалый рот. – Говори…
По измазанному соком лицу Ревекки текли слёзы, оставляя после себя розовые дорожки. Она стиснула губы… и медленно, твёрдо покачала головой.
Цадок рухнул на колени: – Ревекка! Заря моя! Услада моего взора… скажи его имя, только имя! И он исчезнет!
Ревекка молчала. Цадок подполз и стал цепляться за её руки, колени… Торопливо, заискивающе… – Я дам своё имя сыну! Своё! Я знаю… моё начало иссякло… ты тоскуешь по мужской силе… только скажи… как его зовут? КАК???
Старик вцепился в её намертво сцеплённые кисти и надрывно сопел. Она молчала. Цадока затрясло. Он грубо дёрнул Ревекку.
Она разлепила губы, спекшиеся любовью и выплюнула ненависть и презрение:
– Это будет не твой сын… у тебя никогда не будет от меня сына… только если этого захочет Господь… …но Он не захочет…
Цадок отшатнулся, как стегануло плетью. Ревекка мстила наотмашь, сполна, в первый и последний раз, за всё, что не получила, заплатив собой по долгам отца. Цадок вскочил, бешено замахнулся, и Ревекка испуганно прикрыла руками голову. Но почти сразу она опустила руки. Она смотрела на него в упор, поддавшись вперёд, сжав свои маленькие кулаки.
И рубашка опять упала ей на бедра, обнажив плечи, грудь и живот, измазанные гранатовым соком любви. – И не смей на меня смотреть!
Жёстко улыбнувшись, Цадок медленно, с расстановкой, ударил её в живот ногой. Вскрикнув, Ревекка завалилась вбок. Цадок ударил в лоно. Она застонала от огненной боли. Ударил ещё… …он бил, пока она не переслала стонать и не замерла…
– Твой ублюдок умрёт сейчас. Ты переживёшь его на день…
Из угла её рта завилась тонкая багряная дорожка, удивительно напоминающая гранатовый узор. Цадок распахнул дверь ударом ноги, зычно крикнул в тёмные фигуры, виной и страхом скомканные в коридоре.
– Эй, кто там! Воды! Мириам!
От скомканной груды отлепилась пожилая, испуганная служанка.
– Заправь светильники! Почему в доме темно? – Цадок кивнул на Ревекку. – Умой госпожу… и переодень во что-нибудь старое… Завтра Закон убьёт её.
Служанка торопливо исчезла и появилась с плошкой, испуганными, трясущими руками стала заливать в светильник нового масла.
А Цадок как-то сразу обмякнул, обветшал… Шаркающее он выплелся из комнаты. Тёмные фигуры слуг услужливо расступились и надменно сомкнулись за ним, за его, навсегда разучившейся быть прямой спиной.
И как только он вышел, Мириам запричитала и упала перед Ревеккой на колени и начала вытирать ей с лица кровь. – Госпожа… я принесу твоё лучшее платье…
Ревекка с трудом поднялась. Она бы упала, если бы не плечо старой Мириам. Ревекка поднялась и Мириам обхватила руками колени хозяйки…
– Госпожа, как тебе должно быть больно… Что же будет? Мне страшно…
Ревекка гладила служанку по голове, утешая глухо и просто: – Не плачь, Мириам… Я знаю, что будет… И не бойся… И не ходи за платьем… я останусь в этом…
Служанка заплакала. Ревекка вымученно улыбнулась: – В этом, Мириам…
Мириам плакала. Прелюбодея Ревекка разбитым ртом шептала ей слова утешения. Пойманная на грехе, она смотрела на свежо разгорающийся светильник, смотрела неотрывно, уже позабыв о старухе, для которой молодая хозяйка была единственным смыслом. Язычок пламени становился всё ближе и ярче. Всё светлее становилось в комнате, и стало очень светло, и бело и уже нестерпимо для глаз, и ослепительный, раскалённый блик просочился в стеклянную стену. И внутренним своим сводом стена потекла ввысь, в горловину…