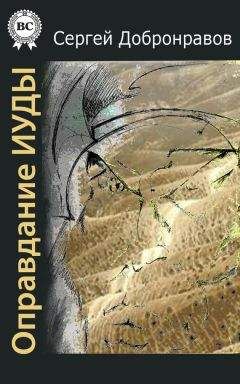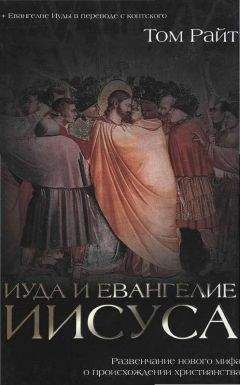Писец захныкал: – Я вошёл вместе с ним… мы вошли…
Но неумолим, как Закон, был фарисей: – Ты видел?
– Да! Да! Я видел!
Отчаянный крик писца облетел притихшую толпу, и Второй фарисей торжествующе поднял руку: – Ты сказал!
Первый фарисей посмотрел на служителей и те подбежали и подали Второму по камню. И тот торжественно принял камни в обе ладони. Сжал. Поднял над головой и служители отбежали к женщине. Второй повернул голову к Первому… …Первый обвёл толпу торжествующим, гневным взглядом. И заговорил…
Его слова испепеляли, закаляя толпу, чеканили, обтёсывая с боков, и превращали толпу в войско. Слова падали, как камни, кроша горожан, сплачивали, цементировали и превращали в груду, в броневую пехоту, в монолит… – Да слышат все! Двое видели блуд. Женщину предадут каменной смерти. Если после того обнаружится сговор, лжесвидетели будут прокляты Господом нашим. Половина их имущества отойдёт городу. Их правую кисть отсечёт меч. Если ведают, что творят, пусть первыми бросят камень!
Женщина сжалась в комок, обхватив руками роскошные пряди, пепельные от пыли и страха.
– Пощадите! Пощадите! Пощадите!
Женщина кричала не переставая, но закованный в броню Закона Капернаум был глух. Она кричала всё тише и безнадежней. Толпа сомкнула уста. Никто не двинулся с места. Женщина охрипла и смолкла.
Первый фарисей дал знак Жилистому и Пухлому. Пухлый бухнулся на ноги женщине, прижав их своей тяжестью, а Жилистый сноровисто начал вязать ей руки. И тут смертное отчаяние вернуло ей силу, и такую, что бешено забилась она в его руках, но Жилистый вязал быстро и жёстко, сирийской петлёй, выше вывернутых локтей. Развернувшись, так же быстро начал пеленать ей лодыжки. И так плотно, что сплющилась тонкая женская кость…
Пухлый, весь взмокший, встал, отдуваясь, как будто связывал он… и вытянул из-за пояса холщёвый мешочек. Тяжело дыша, ковыляя, как набивший брюхо, пеликан, обогнул Жилистого и тяжело присев, попытался насучить мешок ей на голову, но Господь обделил его сноровкой, обделил… Пухлый упрямо и безуспешно ловил голову женщины, как свежую рыбу, избежавшую ячеи. Гибкая, вёрткая, она умудрялась изворачиваться под его руками. Он схватил её за ухо. Она впилась зубами в его руку. Пухлый отпрянул, вскрикнув неожиданно высоко и очень обиженно, прижав укушенную ладонь к груди. Жилистый, повернувшись, равнодушно закатил ей оплеуху. Голова женщины дёрнулась от удара, забагровела щека, смуглая и гладкая, как полированный кедр. Она закусила губу, но не заплакала, но заплескалось по солёному озеру в её тёмных, как спелые маслины, глазах. Жилистый схватил её за волосы и прижал щекой к земле…
Ещё миг она была свободной…
…из-под сильных мужских рук, прижавших её к земле её города, она выхрипывала и исторгала в толпу свою молодую жизнь.
– Будь ты проклят, Цадок, сына Нелева, будь ты проклят, ехидина! Дырявое корыто! Мокрица! Смрадный сластолюбец!!! Будь ты…
Старик закрыл трясущее лицо трясущими руками.
– …в тебе нет ничего, кроме гнилых зубов! – Женщина начала хохотать.
Но мешок надёрнули уже на её прекрасную голову, в меру перетянули, и крики её сразу стали глуше. Жилистый отошёл в сторону, и вслед за ним судорожно и торопливо отковыливал Пухлый, нелепо взмахивая руками, как пеликан, набивший брюхо и увидевший вдруг охотника.
Женщина согнулась, пытаясь коленками защитить холщёвую голову. Нелепо дёргаясь, перекатывалась у стены.
И мешочная тень накрыла ящерку, греющуюся на передней стене амбара. Та повернула вбок острую мордочку. Чёрно-алой искрой вспыхнул и погас раздвоённый язычок, и ящерка живо переползла много выше, подальше от этой непонятной, странно дёргающейся твари.
И там, на новом и тёплом месте, снова застыла… Ветер змеил рыночный сор по утрамбованной веками и копытами городской площади. Измельчая в пыль глиняный прах. И покрывал им сандалии тех, кто пришёл сегодня к амбару.
Второй фарисей протянул Торговцу и Писцу сжатые кулаки и разжал. Торговец закричал и выхватил первым.
И бросил.
Ящерка на стене не шелохнулась. Спокойно наблюдала она и бросок, и полёт. Её это не касалось. Ей было покойно. Она снова пригрелась под уютными лучами светила, созданного Господом для избранного своего народа в третий день.
Ящер посмотрел вниз. Там, внизу, в недосягаемой глубине вспучивались холмы, ломались и трескались, и превращались в овраги. Непонятное существо отбрасывало беспокойную тень, и та холодила его любимый обрыв. Не зря он переполз выше, к теплу, не зря…
Овраги непрерывно меняли свои разломы, трескались и мельчали холмы, взмывая и стекая в пыльную бездну… но значительно ниже его хвоста… Цепкие когти переместили змеиное тело ещё немного вверх, подальше, подальше от тревожного места. Тело привычно прилипло к обрыву. И только хвост медленно вёлся из стороны в сторону…
Прижатый змеиной сутью к отвесной стене, ящер посмотрел назад и медленно распахнул розовую свою, беззубую пасть. В немигающих щелевидных зрачках отразился огромный оранжевый шар, истекающий таким приятным теплом. Сухим и мягким, словно нагретый за день песок…
Сотворённый раньше любых двуногих, он, наверное, мог ещё застать время, лёгким, дымчатым шлаком рассыпанное по пустыням. Смоченное в первородном дожде, и сжатое дланью Господа так, что принуждено оно было стекать в Лету по каплям… А жмых отбрасывался в пустыни, и там с облегчением распрямлялся, раскрываясь, как вынырнувшая из океана губка, и застывал в ноздреватых, полупрозрачных кусках…
Но ящер не знал, что куски эти – выжатое время…
И не удивился, увидев их вкрапленными в гладкую прозрачную гору, с покатыми склонами, с горловиной вместо вершины. Склоны отражали маленький, залитый алым Капернаум.
С равнодушием хладнокровной твари ящер смотрел, как поднявшийся ветер взвихрил эту гору. Как тонко закрученной, золотистой струёй песок, просыпанный день назад, начал втягиваться в верхнюю горловину. Сначала медленно, но потом всё быстрее…
И уже жадно, и весь, до последней песчинки, и без остатка…
Быстро стемнело. До чернильной темноты. До сажи. И был только едва приметен в угольной пустоте крохотный язычок пламени. Ветер, взметнувший песок, опустился, затих…
И пламя осмелело…
Светильник на низком столике осветил чашу с вином, и блюдо с гранатами, и низкую тахту, устланную коврами, и двоих…
Чужого мужчину в груботканой хламиде раба, пола которого была намотана им на левую руку. И молодую, красивую женщину…
Чужак правой рукой выжимал гранат. И соком, текущим сквозь пальцы, поил женщину. Он медленно вёл рукой из стороны в сторону, и женщина призывно и гибко следовала за тоненькой красной струйкой всем телом. По роскошным чёрным кудрям перетекали рыжие от светильника блики. Она полулежала на высоких подушках, обнажив грудь и живот, и рубашка из белённого тончайшего льна свободными складками легла ей на бедра. Долго и ловко она ловила ртом гранатовую струйку, но вот промахнулась. Они засмеялись…
Пролитой сок причудливой алой вязью окрасил её цветущую женственность, гладкие плечи и полную грудь, и гибкую талию, и бёдра, почти нагие…
У Чужака всё предплечье было вымазано соком. Он качнулся, и светильник выхватил его сильное, смуглое плечо. Гораздо хуже был освещен торс. Но, пусть с трудом, но можно было разглядеть под хламидой дорогую пряжку, скрепившей хитон на левом плече. Лицо мужчины уходило во мрак, лишь чуть высвечивала небольшая, иссиня-чёрная борода, завитая по сирийскому образцу.
Чужак бросил на блюдо выжатый гранат, и она припала губами к его обагрённой ладони, восторженно прошептала: – Какие сильные у тебя руки…
Он опустился перед ней на колено и достал из-за пояса женский браслет. Её гибкая, тонкая кисть скользнула в браслет, как куница в дупло. Браслет упал на локоть, великоват… Тихо и мелодично зазвенели на браслете золотые подвески. Чужак улыбнулся, и виновато, и восхищённо.
– Какие маленькие у тебя руки…
Она засмеялась, мягко, тихо и счастливо.
И всё настойчивей прижимала его голову к своим бёдрам, в складки рубашки. Он послушно склонился, припал… а она гладила ему голову и спину, и подаренный браслет скатывался на кисть. И улыбка её была легка и свободна. Счастливая, она сонно прикрыла веки… …и услышав дверной скрип, широко распахнула глаза.
И истошно закричала, до ледяного озноба, всей кожей.
Двери распахнулись. Свет от лампы ударил её по лицу. Она отшатнулась. Вошли и застыли двое. Старый Цадок, с большой лампой в руке и его писец Захария со свитками, что медленно и бесшумно начали осыпаться из его рук на ковёр.
Не прекращая кричать, она охватила себя руками, всю себя, омытую гранатовым соком. Волнистым, смоляным покрывалом упали на лицо кудри. Чужак, распрямившись с колена, с разворота ударил Цадока в грудь левой рукой, на локоть которой был намотан плащ, прикрыв этим ударом себе лицо, как чёрным воскрилием…