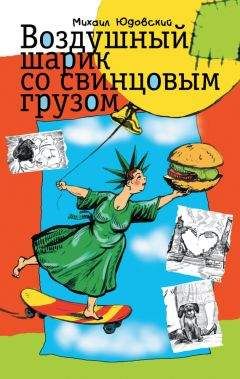– Думаешь меня споить? – снова усмехнулась Люсьена. – Не надейся.
– Я и не надеюсь… на это.
– А на что ты надеешься?
– На чудо.
– На какое чудо?
– На самое чудесное чудо. Вдруг мои слова дойдут до ва… до твоих ушей, а мое молчание до твоего сердца.
– Сначала хотелось бы услышать, как ты молчишь.
Я замолчал.
– Знаешь, твое молчание мне нравится больше, – сказала Люсьена. – Солнышко, а ты меня не боишься?
– А почему я должен тебя бояться?
– Все-таки я укротительница. Мало ли что придет мне в голову… Вдруг я заставлю тебя прыгать через обруч?
– Горящий?
– Не исключено.
– А голову мне в пасть не положишь?
– Это ты суешь свою нелепую юную голову мне в пасть. Не боишься, что откушу?
– Нет, не боюсь. Откусывай. По-моему, боишься ты.
– Я? – Люсьена как-то чересчур уж по-актерски приподняла брови. – Маленький, а ты не сошел с ума? Чего мне бояться? Под статью о совращении малолеток ты уже не подходишь.
– Ты полюбить боишься, – ответил я. – Показаться слабой и глупой боишься. Так и путешествуешь из города в город со своей Зосей, ночуешь по гримеркам, а когда не можешь уснуть, слушаешь, как в соседней комнате, в клетке, ходит из угла в угол и тоскливо рычит твоя леопардиха.
– Пошел вон отсюда, – сказала Люсьена Тамм.
– Не пойду.
– Хочешь, чтобы я выпустила Зосю?
– Выпускай.
Люсьена взяла с гримерного столика бутылку коньяка, налила себе полстакана и выпила залпом.
– Откуда ты взялся на мою голову? – проговорила она. – Тебе перепихнуться не с кем? Сверстниц не осталось? Или захотелось поопытней и поискушенней? Эдипов комплекс заговорил?
– Дура, – сказал я.
– И это все? Куда подевалось твое остроумие? Скукожилось и спряталось? Я люблю остроумных мужчин. Помню, был у меня один остроумец, постарше тебя, естественно, так тот, натягивая презерватив, говорил своему «дружку»: «Защищайтесь, сударь!» А ты своему что говоришь?
– А ты действительно стерва.
– Ты называешь своего «дружка» стервой? Какое тонкое извращение. Почему ты не пьешь коньяк? Хочешь, чтоб я одна напилась?
Я налил себе.
– Больше, больше наливай! Все мои мужчины пили много, а после прощания со мною вовсе спивались.
– Громче, – сказал я.
– Что?
– Громче об этом ори. Тогда, может, сама поверишь.
– Какой же ты милый, когда сердишься. Говоришь зло, по-взрослому, а краснеешь, как ребенок. Тебе точно двадцать четыре?
– Ты сама как ребенок, – ответил я. – Хвастаешься, врешь, корчишь из себя бывалую стерву. Придумала себе идиотскую роль и шагаешь с нею по жизни, воя от одиночества. Продолжай играть.
Я направился к двери.
– Ты куда, дурачок? – Голос Люсьены внезапно понежнел.
– Домой, – буркнул я. – Или в гости. Мне, слава Богу, есть куда пойти.
– Так ведь метро закрыто.
– Такси возьму.
– А деньги?
– Обойдусь. Пока буду ехать, расскажу таксисту свою историю. Он меня поймет, посочувствует, стукнет разок монтировкой и отпустит без уплаты. «Ползи, – скажет, – братишка. Тихо ползи по склону Фудзи».
– Не нужно никуда идти. – Люсьена подошла ко мне и обвила мою шею руками. Взгляд ее стал обволакивающе мягким, а губы чувственными и по-детски беззащитными.
– Затеяла новую игру? – попытался усмехнуться я, чувствуя, как кровь приливает к каждой клеточке моего тела.
– Наоборот. Игры закончились. Я побыла укротительницей, а теперь я просто женщина. Мы оба были и укротители, и звери. Маленькие глупые зверушки. Давай станем людьми. Поцелуй меня.
Я поцеловал – сперва робко, потом нежно, а затем нежность моя куда-то ушла и появилась совершенно непонятная свирепость – маленькая глупая зверушка внутри меня не хотела становиться человеком. А потом она вдруг утихомирилась и сделалась совсем ручной, уже глубокой ночью, когда луна, нагло пялившаяся в окно гримерки, проплыла мимо, а пружины плюшевого дивана умолкли, и стало слышно, как за стеной, в кладовке, тоскливо рычит леопардиха, царапая когтями пол и грызя клыками прутья клетки.
* * *
На следующее утро Люсьена почти силком прогнала меня домой, заявив, что за несколько часов моего отсутствия ничего с нею не случится, а мне никак не повредит, если я немного посплю, поем и прихвачу из дому зубную щетку. Эта зубная щетка меня почему-то успокоила.
– Ты права, – сказал я. – Чистые зубы – чистые отношения. У каждого человека должна быть своя зубная щетка и губная гармошка.
Дома я почувствовал себя неуютно. Ни спать, ни есть мне не хотелось. Я попробовал почитать книгу, но обнаружил, что читаю мимо строк. Тогда я принял душ, сварил себе кофе и вышел на балкон с чашкой и сигаретой. Выпив кофе и докурив, я ощутил себя еще неприкаянней. Трудно было находиться отдельно от своих мыслей, а мысли мои были явно не дома. Я сложил в сумку кое-что из вещей, не забыв про зубную щетку, взял побольше денег и поехал в центр. До начала представления второго дня конгресса оставалось часов пять. Я погулял по центру, пытаясь отвязаться от мыслей, которые норовили увести меня в сторону Октябрьского дворца. Мне не очень-то хотелось, чтобы Люсьена, видя мою настырность, сочла меня окончательно и бесповоротно укрощенным. Я бессмысленно бродил по вязи улочек, убеждая себя, что наслаждаюсь теплым майским деньком, цветением каштанов и облупившимися фасадами зданий. Потом мне захотелось кофе, и я, обрадованный этим внезапным отвлекающим желанием, зашел в ближайшую кафешку и сел за столик. Пока я размышлял, не заказать ли мне к кофе рюмку коньяку, в кафешку зашли двое – короткостриженый парень и девушка. Лицо парня было мне незнакомо, а вот лицо девушки знакомо настолько, что я пожалел, что не могу превратиться в невидимку. Я нагнулся, делая вид, что завязываю шнурки, но было поздно.
– Привет, – раздался надо мною язвительный голосок. – Какая встреча.
– Неожиданная, – пробурчал я, глянув вверх.
– Настолько неожиданная, что ты от растерянности пытаешься завязать шнурки на туфлях без шнурков?
– Мои туфли, что хочу, то на них и завязываю, – огрызнулся я.
– Аня, – пробасил парень, – это кто?
– Это, Димочка, мой бывший… как бы поинтеллигентней выразиться… кровосос. Вообще, редкостная сволочь. Если тебе когда-нибудь захочется оказаться в сумасшедшем доме, пообщайся с ним часика три.
– Чего это я должен с ним общаться, – буркнул Димочка.
– Правильно, – кивнул я. – Не надо со мною общаться. Общайтесь друг с другом. Я вот сейчас уйду, и общайтесь до посинения. А уж кто из вас потом окажется в сумасшедшем доме – меня, в общем-то, мало беспокоит.
– Не хами, – сказала Аня. – Димочка, скажи ему, чтоб он вел себя повежливей.
– Ты это… – парень с укором посмотрел на меня, – повежливей давай.
– Дима, – ответил я, – скажи Ане, что в нашем городе живет без малого три миллиона человек.
– В нашем городе, – начал было Дима, повернувшись к Ане, – живет без малого… Эй! – Он снова глянул на меня. – А чего это я должен ей говорить, скоко людей живет в нашем городе?
– А того, – сказал я, – что в городе живет почти три миллиона человек, а столкнуться мне надо было именно с нею. Переведи.
– Дима, – Аня сдвинула брови, – он сейчас не только снова мне хамит, но еще и над тобой издевается.
– Ты чего, издеваешься? – сурово спросил меня Дима.
– Я? Как я могу над тобой издеваться, если я тебя в первый раз вижу? Это Аня над нами обоими издевается. Она это умеет.
– Дима, – сказала Аня, – дай ему по морде.
– За что? – удивился Дима.
– Как за что! Он же мой бывший, он со мной целовался, он…
– Так меня ж тогда у тебя еще не было.
– Ты что, его боишься?
– Чего это я боюсь? Ничего я не боюсь. Просто я…
– А ты? – Аня вонзила в меня глаза-буравчики. – Ты не хочешь дать ему по морде?
– А я-то ему за что?
– Как за что? Он встречается с твоей бывшей девушкой, он целуется с ней, он с ней…
– И я ему за это дико благодарен, – заключил я.
– Ну и мужики пошли! – покачала головой Аня. – Тряпки, а не мужики. Вы еще друг с другом поцелуйтесь, и все с вами будет ясно.
– Чего это я с ним должен целоваться, – буркнул Дима.
– Дима, если ты немедленно не дашь ему по морде, между нами все кончено!
Дима вздохнул.
– Друг… ты того… извини… – пробормотал он и коротко, без замаха, засветил мне в глаз.
Я потерял равновесие и свалился вместе со стулом.
Буфетчица и две курсирующие по залу официантки взвизгнули.
– Дима, ты что, идиот?! – набросилась на Диму Аня.
– Ты ж сама просила…
– А если б я попросила его зарезать? Ты б зарезал?
– Не знаю… Так ты ж не просила… Друг, ты не обижайся, – он протянул мне руку, – я ж не со зла…
– Я и не обижаюсь, – ответил я, ухватив его за руку и поднимаясь.
– Точно?
– Точно.
– И ты меня извиняешь, друг?
– Конечно. Надеюсь, брат, что и ты меня простишь.
С этими словами я заехал Димочке в скулу. Димочка удивленно глянул на меня, пошатнулся, зацепился за ножку стола и рухнул на пол.