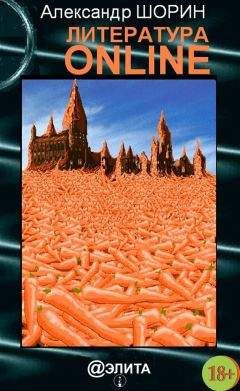– Откуда такая? – спрашивает.
– Пантелейковская я, – та отвечает.
А та тётка – бац! – и в обморок!
…Дивится Катюха чаю зелёному, дивится ванной с кучей краников, дивится толстому коту персидскому.
А тётка все причитает:
– Кровинушка моя родная, прости меня, дуру старую! Бес попутал тебя бросить!
Смотрит на неё Катюха с сочувствием, а на языке все вопрос один крутится.
– Дозволь, – говорит, – матушка, вопрос тебе задать простецкий.
Та, слёзы глотая, говорит:
– Что хочешь, доченька, спрашивай. Всё как есть отвечу.
– Правда ли люди говорят, матушка, что шлюха ты известная?
Тётка не оскорбляется, смеётся:
– То, что у вас в деревне шлюхою зовётся, у нас именуется «дама полусвета»: работа хоть и нелёгкая, да зато денежная, если к ней с умом подойти. Вот этими вот… руками… все это я заработала.
Посмотрела Катюха на её руки холёные, пожала плечами недоверчиво.
Сказала:
– Дозволишь ли ещё вопрос простецкий?
– Спрашивай, доченька.
– Правда ли что ты спидоносица?
Поперхнулась тётка чаем зелёным, глаза её снова стали злыми, как в самом начале.
– Кто тебе, курва, х…ню такую спорол? А?
Катюха сжалась вся от слов таких, но ответила твердо:
– Люди говорят про тебя, что ты спидоносица, и я, дочка твоя, тоже вся заразная.
– Языки пообрывать таким людям! – закричала тётка. – Триппером болела, гонореей болела, но вот чтоб Дашка-минерва была спидоносицей?!! Да никогда!
И тут вдруг глаза злыми стали у Катюхи:
– Тогда, мамочка, принеси мне, пожалуйста, справку!* * *
В новом платьишке, со справкой заветной в кармашке потайном, засобиралась Катюха к родному батьке.
– Оставайся, живи у меня, – причитает маменька.
– За внука моего замуж выходи! – настаивает Фатима.
Катюха же, прощаясь с ними на автостанции, говорит первой:
– Купи самогону лучшего, заводи свою красную бибику и приезжай к нам в Пантелейково с повинной головой. Небось, не отрежут…
Говорит второй:
– Купи самогону лучшего, садись с внуком вместе в мамину бибику и приезжай к батьке моему свататься. Авось сговоритесь…
И машет, машет им из автобуса ручкой.
3. Этюд в садо-мазо тонах
Возвернулся Фёдор с поля, трактор свой поставил у околицы, пошёл в дом руки от мазута мыть. Моет руки да весь торс ледяной водой, покряхтывает от удовольствия, думает об ужине. Глядь – а кресла-то, дочкой подаренного, нету.
Заходит в избу, спрашивает у Авдотьи:
– Где моё кресло любимое? Где плетёное?
Видит Авдотья глаза его гневные и отвечает ласково:
– Садись, поужинай, Феденька. Я тебе всё как есть и расскажу.
Садится он, грозный как медведь, самогонки себе в стакан наливает для аппетита. Ждёт, чего ему жена скажет.
А жена ласково так с тарелочкой к нему подходит и тут же эту тарелку надевает ему на голову. Пока тот, обожжённый, головой мотает, она по той голове скалкой. Ррраз! Другой! Третий!
И приговаривает:
– Я те, козлу старому, покажу кресло! Покажу тебе плетёное! Ты, мудило смердячий, только о своей спидоносице и думаешь! Не обо мне, не о дочках, а всё только об этом шлюхином отродье! Ещё только разочек, пугало одноглазое, заикнешься о поганой своей выродке, я те тогда второй глаз вышибу! Понял, козлина?!!
Разболелась голова у Фёдора, разболелась нога. Упал он на пол, стонет.
А дочки-близняшки кричат ехидно:
– Так ему и надо. Обещал нам Интернету и не купил. Всё только о своей шлюшке малолетней вспоминает!
Отполз Фёдор в угол, затих. Авдотья вроде тоже успокоилась. Присела на табуретку, но руки на всякий случай в бока уперла. На мужа смотрит.
Тот приподнялся медленно, сел в углу на пол, утёр юшку из носа. Нащупал под рукой бутылку с самогоном. Достал зубами пробку…
Хлебнул раз. Враз голова прояснилась.
Хлебнул второй. Прошла боль в ноге, словно её и не было.
Тогда он присосался к бутылке и выпил её до самого донышка. Медленно-медленно поднялся, снял с пояса ремень армейский и тяжко ударил пряжкой прямо посерёдке стола. Что-то звякнуло, и в столешнице образовалась внушительная вмятина.
Авдотья попятилась, скалку выронив. Девки завизжали, забившись втроём на одну софу.
А Фёдор повыкидал их всех из дома с криком:
– Я, б…, контуженый. Всех, нах, порешу и мне, нах, них… не будет!
И погнал их, родненьких, кругами вокруг деревни!
Потом загнал обратно в дом и лишь тогда смыл кровь с лица водой ледяной.
Сказал негромко:
– Ну чего, жена, сидишь? Суп давай подавай!
В ту ночь заделали они мальчонку.* * *
…Приехала Катюха домой. Идёт-боится, справку мятую в руке сжимает. А Авдотья улыбается ей сладко-сладко ртом щербатым:
– Катюшенька родненькая возвернулась. Вот батька-то наш обрадуется!
Полюбить-то она её не полюбила, но трогать больше не смела.
…А через месяц приехала красная бибика. Без самогону, правда, но зато с водкой, с Фатимой, с женихом Арсеном и с Дашкой-минервой за рулём.
Катюха в первую очередь на Арсена пялится.
Пялится и смеётся:
– Ой, на оба глаза косенький!
Тот в ответ улыбается.
И был пир на весь мир, и я на том пиру был. Водку пил… дальше не помню.
* * *
А что потом? Знаю только, что взяла Дашка-минерва всех троих близняшек в большой город – «на воспитание», что Катюха согласилась выйти взамуж за Арсена сразу, как только школу закончит, и с условием, что жить они будут в старом батином доме.
Авдотья, как и обещала, сына родила. Мишкой назвали…
Ах да… Спросил как-то батька у Катюхи:
– Чего это ты про кресло-то ни разу даже ни словечка не спросила. Будто и не помнишь, что дарила…
– Да знаю я батька, цыганке его продали. Ну и пусть в нём косточки свои лечит: знала, что покупала, старая. Я тебе, батька, новое справлю, ещё лучше.
И сделала, как обещала.
Не то лес, не то парк – так сразу и не поймешь: вязы и дубы, огромные, величественные, но большей частью высохшие, мёртвые, словно посмертные памятники тем, кем они были когда-то. А те из них, что ещё живы, тоже клонятся к своему закату – тяжёлые, древние. Пока еще величественные, но уже умирающие. Среди полога медных листьев, по едва заметной тропинке под предвечерним небом бредут двое: темноволосая женщина с молодым, но строгим лицом в тёмно-синем платье до пят с глухим воротником на шее и мужчина. Растрёпанный и одетый странно для такой прогулки: в белой майке и тёмных штанах до щиколоток, больше уместных для домашнего отдыха, чем для прогулки с дамой. Но мужчина этого несоответствия, кажется, совсем не замечает. Впрочем, как и окружающей его природы: он целиком поглощён разговором – даже иногда немного прикрывает глаза, чтобы лучше слышать ответы собеседницы. Она, кажется, тоже не считает странным место, в котором они находятся, – для нее это скорее фон, декорация, чем предмет пристального наблюдения, зато на своего спутника она смотрит внимательно и словам его придает значение. Впрочем, эта внимательность холодная – у неё лицо человека, которому загадывают математическую задачку.
– Ты ведь сказала мне, что хочешь влюбиться, не так ли?
– Да, и готова повторить свои слова. Но при этом я не устаю повторять, что это не моё, я вообще не способна влюбляться!
– Нет ничего проще, Марго, – отвечает тот. – Нужно всего лишь поднять вверх глаза и сказать отчетливо вслух: «Я влюблена». Можешь ты это сделать?
– Куда вверх, к небу?
– Да.
Она спокойно поднимает глаза к небу и произносит своим обычным ровным голосом:
– Я влюблена.
И тут же спрашивает:
– Это всё?
– Да, – отвечает тот, и в голосе его сквозит отчаянье. Явно он ожидал от этого эксперимента чего-то большего.
А она тут же добивает его следующим вопросом:
– И в кого я, по-твоему, должна быть влюблена? Может быть, в тебя?
– Почему бы и нет? – огрызается тот, и… просыпается.
* * *
Пьер долго лежал с закрытыми глазами, пытаясь проанализировать свой сон. Так вот сразу, с утра, логика временами подводила его, но зато интуиция как раз в это время срабатывала безошибочно. Интуиция ему подсказала: «Ты влюблен в неё». Он попытался опровергнуть это наглое и безапелляционное утверждение, призвав дремавшую логику, но она, проснувшись, лишь все усугубила.
«Во-первых, – сказала она ему, – ты во сне разговаривал с ней «на ты». Во-вторых, ты желал, чтобы она не просто влюбилась, а влюбилась ИМЕННО В ТЕБЯ. А в-третьих, – и это самое важное – ты сам очень хотел признаться ей в любви, но не решился. Даже во сне не решился!!!».
В легкой панике он обхватил голову руками и начал делать дыхательные упражнения, чтобы успокоиться. Его самовольный контракт нравился ему всё меньше и меньше.
* * *
Принцессу подданные любили, но при этом продолжали называть ее «принцессой» даже после смерти её отца, который был королем и не оставил других наследников – то есть она в их глазах как бы осталась в прежнем статусе. А во-вторых, любовь к ней не мешала им рассказывать каждому встречному-поперечному о том, что вместо сердца у неё глыба льда.