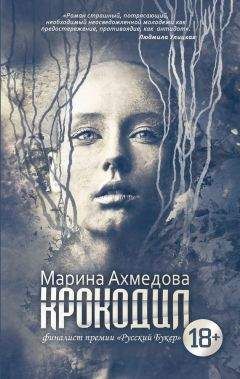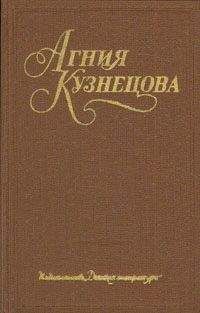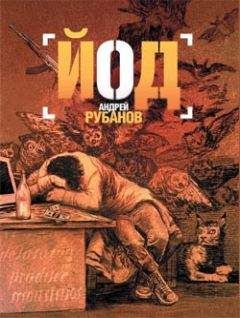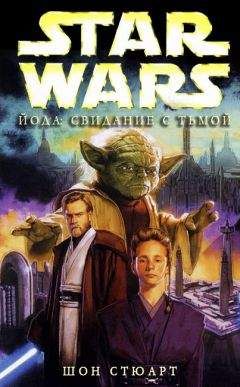– А че раньше не позвонила? – без интереса спросила Салеева.
– Дела, блядь, у меня были! – огрызнулась Яга. – Чувствовалось, что у него такая обида на меня после смерти. За сорок дней ни разу ко мне не приходил, а Светке почти каждую ночь снился, – сказала Яга с обидой в голосе.
– А ты его трогала? – Салеева задернула занавеску.
– Да, он весь такой мягкий был, как желе. Руки такие… Я еще подумала, что они его, в холодильнике не держали? Попрощалась с ним, че, землю, все кинула, чтобы пухом… А он еще Светке всегда говорил – пойдем, доченька, в церковь сходим, исповедуемся, причастимся. Сам, блядь, пьяный, как не знаю кто… Так они и не пошли. Меня он не звал. Меня больше мать как-то любила.
– А отчего он умер?
– А я знаю? От онкологии, кажется, говорили.
– Сейчас онкология на каждом шагу, – сказала Салеева.
В кухню вошел Миша. Шмыгнул носом. Сразу направился к плите. Отодвинул крышку на другую конфорку. Поднял с пола бутылку с бензином и поставил на столешницу.
– Здесь давно, в восьмидесятых, был выхлоп сибирской язвы, – вытирая нос рукавом, сказал он. – Кто тут в это время был, все умирают от рака.
– Да ты че? – просипела Яга.
– Да, дедушка тут был, он рассказывал, – бесцветно подтвердил Миша. – Вот Никаноровку всю закатали асфальтом. Землю известью поливали. Деревья рубили. Сколько тут яблонь было раньше, уже не осталось.
Пальцами он нажимал на пластиковые головки упаковок с таблетками и собирал белые кругляшки в ладонь.
– Где спички? – спросила Яга, вставая.
Ногой она задела банку.
– Осторожней! – прикрикнула Салеева.
Вода всколыхнулась, поднимая со дна разжиревшие от слизи окурки. Они заболтались в воде, но быстро упали на дно. Новый окурок, только что брошенный Салеевой, показался на поверхности, слабо дернулся и, коротко кружа, начал оседать.
– Старая, опять с работы убежала? – спросила Яга.
Старая сидела на табурете и шевелила ноздрями, словно за желтыми веками, прикрывающими ее глаза, сейчас крутилось дурное кино. Временами она откидывалась назад, и, казалось, только копчиком удерживалась на табурете. Мелко вздрогнув, Старая возвращалась. Произнеся «а-а-а», словно откликаясь на чей-то зов, она врезалась плоским животом в край стола.
– Старая! – позвала Яга.
– А-а-а? – та приоткрыла глаза.
– Опять с работы, спрашиваю, убежала?
– Не убегала я никуда, – неразборчиво произнесла Старая, отлепляя язык от неба и причмокивая. – Рабочий день закончился. Ве… чер уже.
– Да ладно, не гони, – встрепенулась Яга. – Салеева, в окно посмотри. В натуре уже вечер? Я только пришла, че, вечер уже?
– Ты вчера пришла, – сказал Миша.
– Иди ты… – выдохнула Яга.
– Время летит, – сказал Миша.
– В натуре летит, – подтвердила Старая, качнувшись на табуретке.
– Стой, вечер, – Яга встала, цепляясь за стену. – Стой, бля-а-а… Вечер…
Яга вышла из подъезда. Пахло вечером. Вернее, как обычно в северных городах, в Екатеринбурге под вечер похолодало, с Уральских гор змеей приполз тонкий ветерок и, летая от куста к кусту, срывал запах уже проснувшихся соков и мотал их, как хотел, по дворам блочных многоэтажек. Яга запахнула на груди куртку. Она подалась вперед, согнутые в локтях руки отвела назад и, сделав рывок, побежала. В одном из окон четвертого этажа показалось плоское удлиненное лицо. Старая смотрела Яге в спину, на ее прыгающие лопатки, пока та не скрылась за углом соседнего дома. С другой стороны во двор въехала белая «Газель». Лицо Старой исчезло, тюлевая занавеска разлила по стеклу молочную муть.
Дверь хлястнула по одеялу, врываясь в коридор с таким злобным напором, словно брала разгон, чтобы, сорвавшись с петель, пронестись плашмя по комнате, пробить стену и облететь весь город, рухнув где-нибудь на окраине. Одеяло взметнулось, шипя и выгнувшись горбом. Шорох вздыбившихся шерстинок прошелся по коже людей, собравшихся в кухне. Черты Салеевой заострились, глаза сузились, но она быстро спрятала это новое лицо.
– Стоять на месте, не двигаться!
Анюта, отдернув иглу от ноги, бросила шприц на балкон.
– Лежать! Головой в пол!
Ваджик и Миша медленно сползли с дивана на пол. У Ваджика задрался коричневый свитер, показав нижнюю часть спины, поросшую длинными черными волосами. С правого бока краснел рубец. Миша слабо обхватил голову руками и медленно, без суеты вытянулся, втыкаясь пятками в диван.
В кухню ворвались двое в масках. Салеева стояла, расставив ноги. Не шевелилась.
– Встала, – омоновец, держа автомат двумя руками, ткнул дулом в сидевшую на табурете Старую.
Старая медленно повернулась. Посмотрела сквозь полуприкрытые веки на автомат. Дернула носом, будто принюхиваясь. Брезгливо приоткрыла рот и поднялась с табурета.
– Давай всех в комнату, – на кухню заглянул толстый мужчина в бежевой куртке. Широко расставленными глазами он быстро прошелся по Старой, Салеевой и скрылся.
– Пошли!
Войдя в комнату, Салеева вскользь взглянула на Мишу и Ваджика. Села в кресло и сделала недовольное лицо. Анюта, опустив глаза, ссутулившись, стояла у стены под медалью. Двое омоновцев встали по бокам дверного проема. Двое остались в коридоре. В комнате находились еще двое. Один – высокий, худой, в темно-синем спортивном костюме, другой – с видеокамерой, приставленной к глазу. Салеева зло посмотрела на них.
– Начальник, можно встать? – спросил Ваджик, приподняв голову.
– Лежи, – сказал толстый, заходя в комнату.
Ваджик послушно опустил голову.
– Как скажете, начальник, – сказал он, причмокивая и как будто целуя пол.
– Ровно стой, – толстый подошел к Анюте. – Давай сюда, – обернулся он на оператора.
– Не снимайте меня, – заныла Анюта, отворачиваясь от стеклянного глаза, смотрящего ей в лицо. – Меня родители если увидят, они меня убьют.
– В камеру смотри, в камеру, – толстый говорил мягко, как будто всех людей, собравшихся в этой квартире, он знал давно и хорошо, только не уважал.
– Я же говорю, – всплеснула руками Анюта, не трогаясь с места и вжимаясь щекой в пупырчатую цементную стену, – родители меня увидят!
– Птица, ты слышал? – толстый дернул головой в сторону кухни, откуда доносился шум выдвигаемых ящиков и шорох пакетов. – Она боится, что родители увидят!
– А мы им специально покажем! – донесся из кухни крик Птицы.
– Ой, да что такое, – Анюта затрясла головой задевая макушкой медаль.
– Медалька? Золотая? – Толстый протянул руку. Анюта шарахнулась. – Стой-стой-стой, – ласково проговорил он. Анюта вжала голову в плечи. Толстый дотронулся пальцем до ребра медали. – Не настоящая, – сказал он.
Черты Салеевой снова заострились.
– Ну давай, рассказывай, – сказал толстый, ставя между собой и Анютой оператора.
Камера лезла Анюте в лицо.
– Что рассказывать? – капризно и с плачем спросила она.
– Как звать тебя.
– Субурова Анна Евгеньевна.
– Анна Евгеньевна, кем вам приходится гражданка… – толстый сделал паузу и повернулся к двери. Оттуда шагнул омоновец и передал ему паспорт. – Гражданка Алена Леонидовна Салеева восемьдесят четвертого года рождения.
– Одноклассницей, – пискнула Анюта, бросив взгляд в камеру и заморгав. – Мы с детства дружим.
– Что делали сегодня?
– Ничего, – сказала Анюта. – Пивка зашла попить.
– Пивка зашла попить, ой-й-й… – умильно сложил руки на груди толстый. – Ой-й-й… Девочки-и-и… А если мы у тебя сейчас анализ возьмем на содержание дезоморфина в крови, мы его там обнаружим? Обнаружим мы там его? – он повысил голос.
– Не знаю, – всплеснула руками Анюта.
– Обнаружим или нет?
– Я не знаю! – заплакала она. – Я сюда вообще не хожу. Первый раз пришла. Клянусь.
– Чем клянешься? – серьезно спросил толстый.
– Между прочим, клясться – грех, – Анюта перестала плакать и с упреком посмотрела в камеру.
– Ой, грех, – снова умилился толстый.
– В Библии так написано, – Анюта покраснела.
– А колоться – не грех? – вкрадчиво спросил толстый. – А то, что наркотик – это растянутое во времени самоубийство, тебе никто не говорил? – Он развернулся к камере боком, словно поток своего голоса хотел направить не в Анютины уши, а в гладкое дуло камеры. – Давай эту, – он повернулся к Старой.
Анюта, вытирая глаза трясущимися руками, отошла в угол. Омоновец отделился от стены, подошел к Старой и молча повел автоматом в сторону стены. Старая встала и, шатаясь, поплелась к стене.
– Что на ногах-то еле стоишь? – спросил ее толстый.
– Ушаталась за день, – недовольно ответила Старая, встала у стены и уставилась в глаз камеры.
– Семина Марина Исаевна? Тысяча девятьсот шестьдесят пятого года рождения? – спросил толстый, открывая паспорт.
– А-а-а? – шатнулась Старая. – Я.
– Колешься?
– Кого я колола?
– Дезоморфин, спрашиваю, употребляешь?
Старая вздрогнула, отстранилась от стены, широко открыла глаза и, шмыгнув носом, сказала: