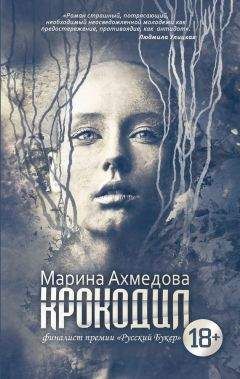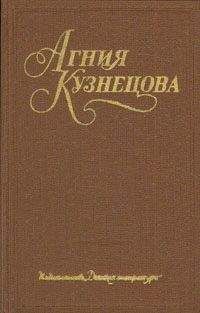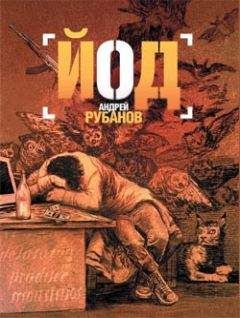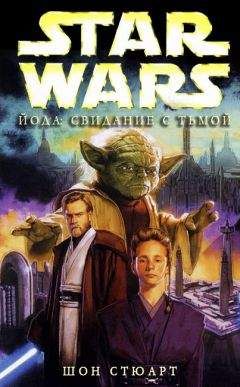– Спортсменка, красавица, – усмехнулся толстый. – Ребенок. Квартира. Я понимаю, когда эти скалываются, – он кивнул на Ваджика с Мишей. – Но вы же – женщины…
– Между прочим, – звонко проговорила Анюта, – змей неспроста к Еве подошел.
– К протестантам ходишь? – спросил толстый. – Смотрю я, ловцы душ неплохо работают, а, Птица? Молодцы ребята, мо-лод-цы.
Толстый подошел к креслу. Расстегнул молнию на папке, вынул лист бумаги, повертел в руках, разглядывая буквы, положил лист на кресло и уселся.
– Давай, этого поднимай, – сказал он оператору.
Ваджик встал.
– Вавилон Варданян, – представился он, не ожидая, пока его спросят. – Начальник, а может, не надо камеру?
Говоря, Ваджик складывал губы и причмокивал, будто ел клубнику.
– Как не надо? – в голосе толстого послышалась усталасть. – Как не надо? – повторил он. – Вавилон, назовите адрес, по которому сейчас находитесь.
– А… это… Братеева, десять, кажется, начальник.
– Что такие глаза, Вавилон?
– Работаю много, сутками работаю, – сказал Ваджик.
– Где работаешь?
– На заводе, на «Уралмаше».
– Там что, наркоманов на работу берут?
– Я же не наркоман, – Ваджик смотрел на толстого, как собака смотрит на хозяина – блестящими преданными глазами. – Я стропальщиком работаю.
– Судим?
– Сто пятьдесят восьмая.
– То есть крадун?
– Нет.
– Сто пятьдесят восьмая – кража.
– Да, крадун. Тогда, начальник, крадун.
– Что украл?
– Магнитофон.
– Давно колешься дезоморфином?
– Три месяца. Устаю сильно на работе, начальник.
– Этих забирайте, – сказал толстый, показывая растопыренными пальцами на Анюту, Старую и Ваджика.
Один из омоновцев, отделившись от стены, подошел к Ваджику, отцепил от пояса наручники. Ваджик завел вперед мясистые руки, вдавив локти в живот. Омоновец защелкнул на них браслеты.
– Начальник, может, не надо? – с тоской Ваджик обернулся через плечо на толстого.
Омоновец толкнул его в спину.
– Начальник, а воды можно выпить? Пить хочется, – пересохшим голосом сказал он.
– Пусть пьет, – сказал толстый.
Анюта и Старая вышли за Ваджиком следом. Старая шла, откинув назад голову, ногами вперед, как будто верхняя часть тела тянула ее остаться в комнате.
Омоновец провел Ваджика в кухню. Взял с тумбы чашку, выплеснул из нее густые остатки чая в раковину, отвернул кран до упора. Струя брызнула в чашку. Вспенившись, вода потекла через край. Омоновец выключил кран и протянул чашку Ваджику. Тот обхватил ее двумя защелкнутыми руками, проелозил локтями по животу и раскрыл соединенные в запястьях руки, чашка попала в них, как в пасть к крокодилу. Ваджик глотал шумно, его кадык ходил по горлу. Кухню заполнило вжиканье колес красной машинки по столу, детское равномерное сопение через рот и судорожные глотки с почти слышным движением кадыка.
Птица достал из-под раковины мусорный пакет и вытряхнул его на пол. Наклонился, разглядывая кучку из пустых сигаретных пачек, мокрых спичечных коробков, грязной тряпки со следами йода и крови и трех блестящих конфетных фантиков.
– Пацан, – сказал Птица, выпрямляясь. – Конфеты сегодня ел?
Мальчик, сидя к нему спиной, продолжал водить машинкой по столу.
– Пацан, – Птица дотронулся до его головы. Мальчик обернулся. – Конфеты сегодня ел? – повторил вопрос Птица.
– Нет, – сказал мальчик. Он прилег головой на стол, подложив под нее руку, и внимательно, не отрывая глаз, следил за машинкой, которая на скорости приближалась к его зрачкам. Когда машинка, описав полукруг, заехала за голову, мальчик проговорил: – Вчера ел.
Толстый навалился на подлокотник. Темный угол съедал его голову. Покатые плечи в бежевой куртке отчетливо прорисовывались в кресле. Тонкая шерстяная рубаха с тремя белыми пуговичками у горла мягко обнимала рыхлый живот. Его лицо, до которого лампа плохо доставала, выглядело обескровленным. На лбу чайкой раскинулась морщина, по форме, но не в длину, совпадающая с контуром верхней губы и краем волос, клином заходящих на лоб посередине. Щеки висели. Золотая цепочка с крупными звеньями западала в потные складки шеи. Темные глаза ничего не выражали, как будто их верхний, самый глянцевый слой стерся от возни по шершавым стенам.
– Что, давно колешься? – спросил он Мишу, поставленного на середину комнаты.
Миша, пошатываясь, стоял под лампой, на одной его ноге черная брючина собралась гармошкой. Лампа била ему в темя, скашивая макушку. Миша отбрасывал на стену тень – высокую, сутулую и крюкастую. Казалось, тянувшуюся из самого темного нутра подвала, пустившую глубокие корни в земле, и готовую наброситься на толстого, избивая его короткими сильными ударами. Готовую крюком на конце руки вспороть его рыхлый живот, на который он сейчас опирался папкой и что-то писал. Когда Миша шевелился, тень расплескивалась и принимала самые уродливые формы. Оторвись толстый сейчас от листа, подними глаза к крупчатой цементной стене, он бы убоялся.
– Через полгода сдохнешь, – сказал он Мише, не отрываясь от букв.
– Все когда-нибудь умрут, – бесцветно отозвался Миша.
– Упороться и забыться? – ручка в толстых пальцах замерла, но пошла писать снова.
– Расслабиться.
Чайка на лбу толстого сложила крылья, а губы его растянулись в усмешке. Толстый поднял голову и почесал лоб.
Салеева откинулась назад. Стул встал на задние ножки, спинкой ударившись о батарею и придавливая руки Салеевой, пристегнутые сзади наручниками. На подоконнике подскочили кружки, электрический чайник и упаковка рафинада, белый аппарат кнопочного телефона, отстегнутый от розетки, почти пустая банка растворимого кофе и папки для файлов в углу. Фиолетовые коленки Салеевой задрались вверх. По икрам пошли мурашки, поднимая дыбом короткие золотистые волоски.
С одного боку от нее стоял стул, на который были свалены ее вещи – черная дерматиновая сумка и бледно-голубая куртка. С другого – стол. За ним сидел худой молодой мужчина со впалой грудью. Его светло-каштановые волосы, коротко подстриженные спереди, сзади жидкими прядями спускались до плеч по затылку. У него был острый подбородок, из которого лишь кое-где проклевывались черные волоски. Из тонкой шеи торчал острый кадык. Левая бровь была опущена, а правая вскинута, что делало его похожим на Пьеро. Густые темные ресницы сильно оттеняли глаза, и цвета зрачков было не разглядеть.
За столом в противоположном углу сидела молодая женщина с разделенными на прямой пробор и гладко зачесанными черными волосами. Белая рубашка топорщилась на ее выдающихся грудях. Маленькая белая пуговица у выреза еле сдерживала их мягкую тяжесть. Из-под стола были видны ее круглые с ямочками коленки в черных капроновых колготках, край синей юбки и полуботинки с острыми носами. Женщина сидела, уткнувшись в бумаги, разложенные на столе.
Салеева отпустила стул и тут же снова откинулась назад, цокнув по батарее наручниками. Чашки звякнули. Руки, ударившись о батарею, оттолкнулись от нее, и стул снова встал на четыре ножки. Салеева откинулась снова и ударялась о батарею, пока ее руки не стали похожи на отбивные. С каждым разом полеты стула назад становились сильней и короче, только паузы между ними удлинялись. Салеева, делая рывок и возвращаясь, не отрывала глаз от красно-коричневой двери, ведущей в темный коридор. На дверь у ручки была наклеена ободранная бумажка с печатью и полоской неразборчивого шрифта. Салеева смотрела на нее и в паузах между шатаниями как будто хотела разобрать, что там написано.
– Это что тут у вас происходит? – в комнату из коридора заглянул лобастый мужчина.
Двойное оконное стекло ярко отразило его голубые джинсы и золотое обручальное кольцо. Длинные плоские лампы на потолке распыляли по поверхности темного стекла световую муть. От этого казалось, что темнота заперта, как в коробке, между двумя оконными рамами. И сама комната казалась запертой – между темным окном и темным коридором. Салеева сделала судорожный вдох, смяв тишину в гармошку, и откнулась снова.
Только что вошедший мужчина подошел к ней и дернул спинку стула. Салеева качнулась, как тряпичная кукла, набитая соломой.
– Нормально сиди, – сказал он.
– Крокодильщица с Братеева, – проговорил худощавый.
– Что, тварь хвостатая, – наклонился к ней лобастый, – будем про подельников рассказывать?
– Я ниче не знаю, – сказала Салеева.
– А если так? – худощавый достал из ящика стола, за которым сидел, смотанный черный пакет.
Он положил его на чистый лист бумаги. Скрученный и мятый, он был похож на внутренний орган. В тишине пакет начал распускаться, еле слышно хрустя, и казалось – сейчас поползет со стола. Салеева резко отвернулась.
– Ну? – лобастый пнул ножку стула.
– Ниче не знаю, – сказала Салеева. – У меня нет никаких подельников.
– А притон у кого накрыли? – спросил худощавый.
– Ниче не знаю.