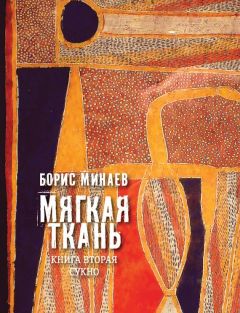И вот, понимаете ли, сказал Преображенский, когда они спускались вниз по лестнице из музыкантской квартиры, вот так они надеются переждать, пережить зиму, потом другую, третью, вот так они надеются спрятаться от всего этого, вы, наверное, это поняли, мой дорогой друг, желание похвальное, но, увы, невыполнимое, не дадут, достанут, я к этим чернокожим присмотрелся, поверьте мне, старику, и вам, и им, всем надо бежать, и чем скорее, тем лучше, из этого прекрасного нового мира, который товарищ Ленин считает самым лучшим из миров, поскольку он, видите ли, честнее и справедливее, но в чем же его честность, в том, что отняли у людей свет, тепло, воду скоро отнимут, хлеб, шоколад, молоко, тем, что у людей отнимают жизнь, ежедневно, ежечасно, в чем справедливость, в том, что дикие орды… А! Да что я говорю, – и профессор отвернулся, почти заплакал.
Да нет, почему же, с улыбкой возразил Весленский, товарищ Бетховен не даст им пропасть, главное – иметь убежище, иметь, ну как вам сказать, иметь внутреннюю силу, внутреннее тепло, которое отогреет, ну вот так я думаю, это убежище. Убежище, подхватил Преображенский, вот вы говорите «убежище», а почему я должен убегать, почему я должен жить по законам тех, кто меня гонит, загоняет как зайца, увы, дорогой друг, это не выход, поверьте старику. Не знаю, сказал Весленский, зависит от убежища, от, так сказать, глубины прорытой норы, она ведь, профессор, она ведь не в трехмерном пространстве располагается, эта нора, это, как бы сказать, четвертое измерение, куда-то туда, куда нельзя дотянуться, просыпается в человеке какой-то странный азарт, и его убежище становится бесконечным, как жизнь, как вера в бога, не знаю, понятно ли я говорю. Непонятно, сердито отозвался профессор, но я вам это прощаю, так что же с вашими документами, дорогой Алексей Федорович, и они завернули за угол, и дикий, ужасный ветер полыхнул им в лицо…
Доктор шел по Маросейке от Садового кольца к центру, из одного советского учреждения в другое, и чтобы дойти потом до Волхонки, путь еще предстоял неблизкий, и он всматривался в лица, улица была полна людьми, странно одетые, они все шли с пустыми котомками за плечами, иногда с мешками, иногда с сумками и портфелями, каждый, одним словом, что-то нес в руках, как объяснил профессор, задачей каждого мужчины было в конце дня что-то принести в дом – неважно, может быть, немного мерзлой картошки, второй обед из советской столовой (в некоторых учреждениях брать второй обед домой дозволялось), может быть, какое-нибудь увесистое полено, фунт крупы или сахару, это если повезет, но между тем, как заметил Весленский, на лицах многих из этих новоиспеченных совслужащих было написано не уныние, а какой-то бешеный азарт, целеустремленность и даже величественность, ведь они не просто шли на работу, а шли спасать мир! – это было странно, но это было так, все работали, все служили, все хотели наполнить к концу рабочего дня, то бишь к четырем часам дня, эти мешки и котомки.
Но что же я-то здесь делаю, подумал Весленский, у меня же нет никакого дела, вот что странно, доктор внезапно вспомнил, как профессор Преображенский рассказывал ему о замерзшей чернильнице, которую отогревали своим дыханием сразу четыре совбарышни, вспомнил – и покатился со смеху. Все-таки это было и нелепо, и ужасно, но чертовски смешно, вообще смешное, забавное, веселое было время, смех на грани смерти, такое ни с чем нельзя перепутать, все-таки предыдущая довоенная эпоха – она была невероятно серьезной, в этом был ее главный недостаток, в таких же веселых тонах рисовал ему профессор Преображенский свой отъезд из Москвы всей семьей; доктор в одно прекрасное утро сел на поезд и уехал в Киев, плюнув на эти хождения по бюрократам, и получил письмо уже через месяц после того, как профессор был в Берлине, так вот, в письме Преображенский забавно описывал, как оформил мандат на всю семью – жена и невестка были лаборантами, сын – адъюнктом, в чемоданах они везли всякие химические реактивы (а на самом деле медицинский спирт). Ввиду того, что мы ехали якобы для обследования прифронтовой полосы, писал профессор Преображенский, необходимо было иметь при себе походную лабораторию, такую бутафорскую лабораторию я и захватил с собой, она представляла собой шкатулку с двойным дном, в которую я спрятал деньги, разделенную перегородками на ряд мест для реактивов, склянок и аппаратов, из аппаратов был только один, да и тот не лабораторный – ингалятор моей жены, а вместо реактивов стояли детское молоко и несколько бутылочек со спиртом, предназначенных для раздачи в дороге в качестве взяток. И вот с этой-то «лабораторией», и вот по этим-то документам их выпустили, и они прекрасно доехали почти до польской границы, это было чудо, но обыкновенное чудо, так поступали в те годы многие, и профессор со своей «передвижной лабораторией по изучению сыпного тифа» не был исключением, людей выпускали, это было самое главное, только за это многие были до слез, буквально до истерики благодарны новой власти, и власть сквозь стальные ресницы, полуприкрыв свои ледяные глаза, смотрела на все эти художества, и выпускала, выпускала, выпускала одного профессора или актера или адвоката за другим.
Однако доктор, приехав в Киев, окончательно отказался от этой мысли – пересечь границу, уехать от этого нового прекрасного мира, нет, он нашел убежище, и это убежище имело имя – Вера. И Вера горячо поддержала его настроение – уйти, затаиться, скрыться, где-то тут, рядом, мысль о норе была ей глубоко понятна, она и сама всю свою короткую жизнь искала эту «нору» внутри себя, и вот нашла – в холодном доме они забирались под три одеяла и рассматривали друг друга в темноте, постепенно раздеваясь догола, потому что становилось жарко, глаза Веры так ярко горели, что доктору казалось, что она излучает свет, вполне достаточный для того, чтобы читать, и однажды он даже сделал такой эксперимент: взял под одеяла книгу, прочесть ему удалось три буквы, но это было неважно. У тебя глаза обладают электричеством, я подключу тебя к отоплению, и будет тепло, важно сказал Весленский, и она начала его душить, и душила долго, пока он не начал задыхаться и не обнял ее так сильно, что сердце закололо, и время остановилось совсем…
Однако теперь, через пятнадцать лет, внезапно вспомнив об этой «передвижной лаборатории», куда входила вся семья профессора, Весленский просветлел лицом и крикнул в коридор: «Сестра!», и появившейся в лаборатории испуганной сестре велел «тихо и незаметно» перевести сюда новую больную с ребенком. Затем он достал из какого-то угла тряпку и стал аккуратно протирать пыль. Появилась, наконец, и Мария, она уже была в сером халате и в тапочках, на руках у нее был отмытый и запеленатый ребенок. «Вы поели? – спросил Весленский, сердито кивнув сестре. – Тогда располагайтесь», – вышел и закрыл за собой дверь.
Именно тогда в его жизни появилась эта странная черта: не имея своих детей, он начал следить за судьбой чужих, пристально, до какой-то горячки, до свирепого волнения в крови, которое он, разумеется, тщательно прятал, тогда, во время голода, он спас эту женщину, и ему казалось, что продолжением станет ее любовь к нему, так часто бывает, к тому же ему и впрямь пришлось потрудиться, во-первых, отбивать атаки Корнейчука, задабривать сестер, иногда даже деньгами, лишь бы не донесли во всякие другие организации, она все это понимала, чувствовала, благодарила, шептала нежные слова, иногда он следил, как она кормит грудью в лучах света, закатного солнца, тут в лаборатории было так устроено, что очень большие окна, и через сад, через эти низкие яблони, доходил этот свет, как послание, и она кормила грудью, потом шла на ужин, к счастью, голод не смог поразить ее тело и мозг слишком сильно, она оправилась, раздобрела, приобрела в походке задумчивость, в халате уже не совсем помещалась, Сашенька нетерпеливо ждал, когда она вернется с миской, держать в больнице детей было нельзя, было не положено, и она уже стала задумываться, а куда же ей теперь, и он тоже стал задумываться, но отпускать Сашеньку он не хотел, он боялся за его жизнь, снова в голод, а куда, оторванная от своего села, Мария ничего не могла и ничего не умела. Тогда он поселил ее у себя, и она стала стирать, готовить, зажила весело и азартно, но вот странно, он никак не мог представить эту украинскую девушку рядом с собой, – не потому, что она была слишком проста, вовсе нет, это ему даже нравилось, но Вера продолжала сниться, и когда он поворачивался во время ужина к Марии и пытался ей что-то сказать, слова застревали в горле и хотелось плакать. Она поняла, притихла, стала смотреть в сторону, хотела уйти, но он не позволял, денег на еду им вполне хватало, по хозяйству ее помощь была неоценима, все это он говорил ей горячо и убежденно, но это было зря, она знала правду. Но вы же, доктор, и без меня тут жили, и ничего – отпустите, я вас Христом богом прошу, да куда же я тебе отпущу, кричал он, а Сашенька, вот в Сашеньке было все дело, ей даже было обидно, что он занимает в душе доктора так много места, а она нет, она пыталась даже войти туда, внутрь доктора, вместе с Сашенькой, держа его за руку, но не получалось, что-то никак не склеивалось, Сашенька был отдельно, а она отдельно.