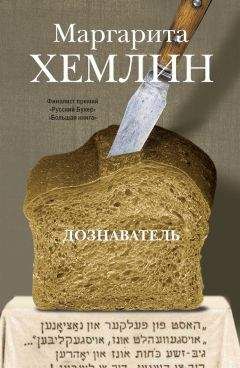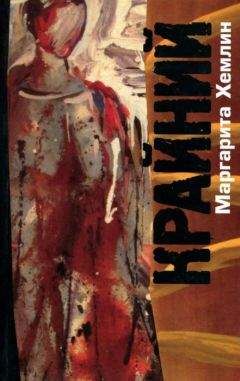А не спросил я Розку. Как ее спросишь? У Розки глаза горят, брови играют, руки туда-сюда прыгают, пуговички перламутровые рубашечные на грудях разошлись, сейчас все наружу покажут.
Не Розка. Страх! Страх!
Я ей говорю:
– Розалия Семеновна, вы успокойтесь! Я ж ничего!..
Она как на горячей печке, голосом берет:
– Ой, не могу! Ой, он же ж ничего! Руки на меня распускать – это ему ничего! Сиди уже и молчи! Ты у меня не для того, чтоб чего! У тебя в твоей голове одни придумки! Ты ж только придумки и понимаешь!
На этом я не усидел. Вскочил, руки к Розке тяну, а язык закляк.
А Розка без передыху:
– Как вы мне все уже упеклись! Я на вас на всех свою жизнь потратила! А вы мне на шею сели и свои ноги поганые свесили! И давите меня, и давите! Да сколько ж можно! Сколько ж можно! Ой!
А потом как закричит:
– Ой-ой-о-о-ой! – Уже совсем на другой голос – с самого своего бабского нутра.
Вскочила, юбку задирает, смотрит под живот. А там же не сильно рассмотришь в таком положении, тем более самостоятельно.
Опрокинулась на кровать, ноги расставила:
– Шо там? Иди смотри! О-о-ой!
Скажу так. Ничего там хорошего совсем не было. А была кровь и непонятное. Вроде начинки для кровянки.
Я так честно про увиденное и сказал.
Розка затолкала пальцы в рот. Замолкла. Получилась у нее передышка.
Через минуту опять кричит Розка. Но не с смыслом, а без смысла – голый крик.
Я испугался, что оно у Розки не проходит.
Спрашиваю:
– Роза, кого позвать? Тут же недалеко больница. Может, туда? Давай! Я тебя хоть на себе потащу!
– Не-е-е-! Дору зови! Она знает! Беги! Ой, скорей!
Я, конечно, шапку в руки и на улицу.
Темень, ночь. Пусто и пусто.
Побежал на Святомиколаевскую – к Доре так к Доре. Бежал, резал углы, спотыкался, а не падал. Подвернулись сани – спасибо, на них доехал.
Мимоходом, без мысли, кинул глаз на шкловские окна. Свет чуть живой, но все ж таки светился. Подумал: “Пускай” – и дальше.
С размаху грюкнул в дверь Доры.
И надо же, как только голова у меня устроена – сразу, за единую секундочку, я перешел на кудлатого, вроде для него сюда явился – на борьбу, нос против носа. Вроде не Розка на повестке дня, а он.
Спасибо, привычная к подобным ночным стукам Дора открыла скоренько. Я вернулся на правильную линию.
– Лазарь? Для кого прибежал?
– Для Розы, Дора Соломоновна! Плохое дело…
Дора не удивилась ни на сколько.
– Шо там?
– Крови сильно много.
– Щас.
Развернулась, схватила что следует.
Обратно бежали в четыре ноги.
Как-то ж добрались.
Да.
Только Розка уже кончилась.
Молчала, лежала, голову вбок повернула, глаза закрыла, рот скривила. Живая была – кривила, а и мертвая скривила.
Дора, конечно, сделала положенное. Младенца и все, что с Розки вышло, сгребла вместе с покрывалом – Розка так на нем и лежала – и кинула комом на пол, сзади себя. Еще и ногой лягнула, чтоб не путалось при движении.
Приказала:
– Иди шукай, на чем везти! В больницу поедем, коло базара! Надо предъявить!
И нашел, и поехали, и предъявили. И то, что в покрывале, – тоже предъявили. Дора и предъявляла как акушерка в свидетелях.
Розку унесли в мертвецкую.
Про мертвецкую я понимал ясно. А про то, что Розка мертвая – не понимал никак. И так думал, и так. Не получалось и не получалось. Ладно. До выяснения решил себя с места не сдвигать.
Через сколько-то в приемный покой явилась баба-санитарка. В руках узелок – вроде большой шмат сала. Чистенький, ровный, сноровистый. Я б такой не сделал. И Розка б не сделала.
Вышла баба и говорит:
– Хлопчик, то твоя покийныця?
Я честно признался:
– Моя. А шо?
– Дак визьмы дытынку, поховай, як людыну. А то кынуть у погану яму… Як по́трох кынуть… Ой, Боже! Бэры! Ну! Покы никого нэмае…
Я взял за самую завязку. Пальцы просунул и взял. Чтоб не касаться остального, другого.
На улице появился свет.
Я шел на кладбище.
А в голове представлял, что иду в баню. Потому что и утро, и узелок…
Представлял себе. Вот помоюсь крепко, и спину помою, и ноги помою, и голову два раза намылю. Буду весь чистый.
Сангигиена – это ж большое дело! Рувим мне раньше часто объяснял и разнообразные примеры приводил из жизни. Говорил, бывает, что доходит до самого плохого. Я себя никогда до подобного не допускал.
Да…
Кладбище, куда я шел, начиналось за городом, как раз на дороге в Александровку. Я там бывал с товарищами. Люди ж на этом свете не всегда задерживаются. На кладбище и деревья, и трава – это если летом. Сейчас, зимой, красоты мало. Что не удивительно – одна тоска в природе.
Кладбище было новое, революционное. Там за милую душу хоронили всех, без различия веры. Конечно, находились и такие, кто не приветствовал подобное решение вопроса. А я приветствовал. Я ж комсомолец, и мне не пристало отгораживаться забором от товарищей других наций. Что ж, пока я еще не умер. Но человек же должен проникать в будущее, в том числе в свое собственное. Ради будущего человек, по правде сказать, и живет.
Конечно, сейчас я учел и то, что товарищ Голуб – женщина партийная, значит, и дите ее для партии большевиков – человек близкий, родной.
И что интересно, Розку я учел. А то, что это ж было б и мое дите, тогда не учел. Хоть и с такой стороны – концы стянулись бы. Она – партийка, а я ж комсомолец.
А пришел на место – надо не размусоливать, а приступать. Я и приступил.
Сначала двинулся к хибаре на входе. Решил, что там местная контора. Так и было.
Вошел.
И тут кольнуло под самое ребро. У меня ж спросят, кого хороню. Бумажки спросят. А у меня на узелок бумажек нету, и на себя бумажек тоже нету. А словами ж не доведешь. В таких организациях, пускай и на революционных началах, слова как таковые не считаются. Правильно, конечно. А то всякий будет.
Вышел на чистый воздух. Стою. Не думаю ничего. Тем более не представляю. Стою сам себе и стою. На снег любуюсь.
Услышал за спиной скрип – сани тащатся. Голоса услышал, плач не на один голос. Потом все это остановилось под самым моим боком.
На сельских санях – партийный гроб. Кумачевый и тому подобное. С людей – две женщины городского вида, не старые, дядька, тоже городской, в годах, вдова – женщина опять-таки городского вида, и девочки лет по двенадцать, причем двойня. Женщины-родственницы рыдают, дядька держится бодряком, себя не роняет, вдова убивается, девочки подвывают, как умеют. Можно сказать, плачут посильно.
То, се, контора…
Уполномоченный от кладбища работник повел сани за собой.
Я пристроился. Не скрою, у меня родилась ясная цель.
Дальше.
Вдова выбирала с уже готовых на рабочий день ям. Причем выбирала так, что три раза передумывала. Глазом вроде выберет, потом подойдет, рукой землю потрогает и отойдет к другой яме. А что трогать? Что ее, то есть землю копаную, мерзлую, трогать? Если б она, то есть вдова, покойника трогала, советовалась, я б еще подобное поведение понял.
Я, конечно, вдову не осуждал. Но и так тоже ни к чему. Люди ж на холоде копали, старались. А ты, получается, перебираешь.
Как-то ж уже выбрала.
Пока гроб сгружали и несли к яме, я подошел к вдове вплотную и прямо, но тихо спросил:
– Женщина, вы сами партийка?
Она от неожиданности поперхнулась слезами, но ответила четко, причем тоже тихо:
– Партийка.
Я не отступал:
– Я сам комсомолец. А тут у меня младенец. – Я выдвинул вперед узелок. – Младенец этот получился от меня. Только он не родился, а выкинулся. И правильных бумажек у него нету. Я вас сильно прошу, как женщину и как партийку, положите его в гроб с вашим дорогим покойником. Если что, ему веселей будет. Младенец по весу ничего не возьмет, и по месту тоже ж…
Вдова смотрела на меня и мотала головой. То мотала вроде “да”. То мотала вроде “нет”. Понятное дело, без привычки подобные просьбы просто не разрешаются.
– Вы не сомневайтесь, младенец мертвый по закону… Я его сам положу…
Я и правда сам положил узелок под бок мертвецу. Руку его приподнял и положил. И край пиджака вроде случайно завернул. Чтоб в глаза не бросалось.
И надо же – в это печальное мгновение покойник показался мне похожим на нашего Владимира Ильича Ленина, который тоже уже умер. И получалось, что я младенца сдал на руки не случайному чужому дядьке, а близкому и дорогому другу.
Ну, прощание, вдова, дети, другие пришедшие и тому подобное.
Да…
По дороге в мастерские я сильно старался рассуждать о насущных делах. А только все насущное упиралось в то, что Розки больше нету.
И так я на Розку обиделся! Как же ж она меня подвела! Я не учел – ладно. Но она ж – старший товарищ! Могла б учесть! Могла б распорядиться!
И не надо думать, что я бревно. Я далеко не бревно. Во мне все, между прочим, бурлит. И хорошее, и плохое. И жизнь бурлит, и смерть тоже. Просто я придумал себе: про главное не думать, тем более не представлять. Потому что невозможно ж так! Человеку хочется спастись от всего на свете, а тут постоянное такое…