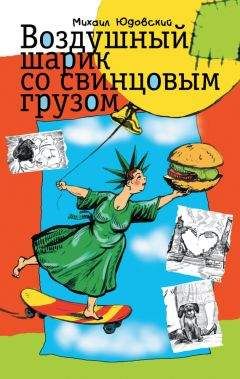Наша процессия цепочкой передвигалась по этому маленькому готическому царству следом за новоявленным гидом с очень подходящим к месту средневековым именем Жанна. Время от времени та поднимала вверх свой пестрый зонтик и взывала к нам:
– Arrêtez-vous, mesdames et messieurs! [54] – и, собрав слушателей в кольцо, принималась вещать.
Я делал вид, что внимательно вслушиваюсь в ее рассказ, позволяя себе многозначительно кивать головой, а когда Жанна замолкала, нес глубокомысленную отсебятину, взращивая ее из крохотных зерен верно понятых мною французских слов. Это было совсем несложно, поскольку в ремесле экскурсовода, как и в любом другом деле, главное – уловить принцип, а все остальное относится к импровизации.
– Voil? l'église Notre-Dame, – скороговоркой объявляла Жанна, после чего переходила на полнейшую для меня тарабарщину.
– Перед вами церковь Богоматери, – прилежно переводил я, – один из красивейших памятников готической архитектуры тринадцатого века, прославленный…
Во время этих псевдоисторических пассажей я с некоторой опаской поглядывал на профессора Айзенштата – мне почему-то казалось, что старый лис знает французский язык. Но профессор лишь молча и вполне дружелюбно улыбался, всем своим видом поощряя меня к очередному хулиганству.
После двухчасовой прогулки по городу мы остановились у музея Грунинге, где Жанна распрощалась с нами, напоследок прошептав мне на ухо:
– Vous êtes un artiste. Traduire sans connaίtre le français – c'est le pied! [55]
– И вам того же, – с улыбкой ответил я.
Жанна чмокнула меня в щеку, помахала остальным рукой и удалилась.
– Тебе сегодня везет на поцелуи, – насмешливо заметила Рита.
– Довольно сомнительное везение, – буркнул я в ответ.
– Ты про первый поцелуй или про второй?
– Боюсь, что про третий. Может, меня еще уличная лошадь захочет поцеловать.
– На ее месте я бы лягнула тебя копытом. Ты готов вести экскурсию по музею?
– Хоть десять.
– В таком случае можешь начинать.
Я величественно откашлялся.
– Медам и месье, – сказал я, – перед нами – известнейший в Брюгге музей изящных искусств Грунинге, история которого восходит к началу восемнадцатого столетия. Подробности – внутри.
Музей был невелик по размерам, да и работ в нем было довольно немного. Я водил нашу группу по малочисленным залам и, чувствуя омерзение к себе, предавался гнуснейшему занятию: рассказывал о картинах и мастерах, их создавших. Иными словами, всячески мешал людям в тишине и спокойствии получать удовольствие от живописи.
– Вы видите перед собою жемчужину музея – «Страшный Суд» кисти Иеронима Босха, – суконным от отвращения языком вещал я. – Триптих, написанный на створках алтаря в начале шестнадцатого века…
– Скажите, Миша, а это очень знаменитая работа? – перебила меня невысокая полная женщина в очках. В руках она держала блокнот и шариковую ручку.
– Очень, – ответил я.
– И сколько же он, интересно, получил за нее?
От такого изумительного вопроса во мне пропало всяческое раскаяние.
– Нисколько, – сказал я. – Голландец Босх преподнес ее в дар музею Грунинге в знак благодарности за первую выставку, которую ему устроили в Бельгии.
– Очень любопытно, – кивнула дама, записывая в блокнотик свежую информацию.
– Но постойте, – возмущенно вмешался Лилин отец, – вы ведь сами говорили, что музей основан в восемнадцатом веке!
– Говорил, – согласился я.
– А картина написана в шестнадцатом, так?
– Так.
– Тогда как же…
– Благодарность не знает временных границ, – отрезал я. – А теперь перейдем к не менее знаменитой «Мадонне каноника ван дер Пале» кисти Яна ван Эйка.
По левую руку от меня внезапно образовался профессор Айзенштат.
– Миша, – тихо и лукаво произнес он, – а ван Эйк – англичанин?
– Почему англичанин? – удивился я.
– «Ван» – это ведь «один» по-английски?
– Верно, – кивнул я. – А «эйк» по-анлийски «боль». Мне нравится ход ваших мыслей, профессор.
– Учусь у вас, – с улыбкой парировал профессор Айзенштат.
– Приятно иметь дело с человеком, который, будучи профессором, не стесняется учиться, – с легким поклоном заметил я. – А скажите мне честно, вы ведь, наверное, понимаете по-французски?
– Как вам сказать, Миша… Вообще-то, я читал курс лекций в Сорбонне.
– Понятно, – вздохнул я. – И как вам мои сегодняшние познания во французском?
– Роскошно, – снова улыбнулся Айзенштат. – Они почти не уступают вашим познаниям в истории.
– Я так и думал. Профессор, когда эта бодяга закончится, не хотите выпить со мною по кружке пива?
– Спасибо, Миша, но вынужден отказаться. Я и в молодости был до пива не охотник, а уж в нынешние семьдесят шесть… Вот водочки я бы выпил с удовольствием…
– Так в чем же дело…
– …Когда бы не все те же семьдесят шесть.
– Профессор, семьдесят шесть – это уже не водка, а тринидадский ром.
– Не стану состязаться с вами в остроумии. Вам пока трудно понять…
– Я уже просто перерос возраст понимания. Вот, скажем, лет двадцать назад…
– Миша, – сказал профессор Айзенштат, – не морочьте мне голову. Публика уже заждалась вашего рассказа о ван Эйке.
Наша группа и в самом деле собралась у «Мадонны каноника», но смотрела почему-то не на картину, а в мою сторону. Я вздохнул и подошел к ним.
– Перед вами, – неожиданно зло сказал я, – одна из известнейших работ фламандского живописца Яна ван Эйка «Мадонна каноника ван дер Пале», написанная в 1436 году, в чем нетрудно убедиться, прочитав табличку под картиной. На работе, выполненной маслом на дереве, изображена мадонна с младенцем в окружении трех фигур, в чем тоже легко удостовериться, если смотреть на картину, а не разглядывать экскурсовода. Поэтому, если вы действительно любите живопись, если она вам в самом деле интересна, смотрите туда, смотрите молча и не ожидая рассказа. Потому что подлинное познается в молчании.
* * *
После музея моя экскурсоводческая миссия была закончена. Рита сообщила, что без четверти пять мы собираемся у автобуса с тем, чтобы в пять выехать обратно в Германию, а до той поры каждый волен занимать себя как угодно – побродить по городу, перекусить, купить сувениры. Я постарался как можно незаметней улизнуть от остальных – за два эти дня я устал от постоянного окружения и соскучился по одиночеству. Мне хотелось побыть наедине с собою и удивительно красивым, пришедшимся по сердцу городом. Я свернул в переулок и, полагаясь скорее на наитие, зашагал к одному из каналов.
– Миша! – внезапно окликнули меня.
Я, не оборачиваясь, прибавил шагу.
– Миша, подожди!
Я вздохнул, остановился и глянул назад. Меня догоняла Лиля.
– Миша… – чуть запыхавшись, проговорила она, поравнявшись со мною. – Ты так быстро ходишь… Я едва.... тебя догнала.
– Зачем? – спросил я.
– Что зачем?
– Догоняла зачем?
– Погулять… вместе.
– Да ну?
– Ну да. Я… я от родителей… сбежала.
– Молодец, – сказал я. – Монастырь кармелиток в трех кварталах отсюда.
– Зачем мне монастырь?
– Чтоб постричься в монахини, раскаявшись в дурном поступке. Девицы, которые сбегают от родителей, обязательно совершают после этого какой-нибудь чудовищный грех, затем каются и, наконец, принимают постриг. Хочу подсократить тебе дорогу.
– Миша, я тебя… не понимаю.
– Что ж тут непонятного? Ступай в монастырь. Или возвращайся к родителям.
– Ты меня… прогоняешь? – Лилины глаза округлились.
– Не прогоняю, а направляю на путь истинный. Который приведет тебя к папе с мамой.
– Миша… ну прости меня за то, что я… Мне правда очень хочется с тобой дружить.
– Чего тебе со мной хочется? – переспросил я.
– Ну, может, я не так выразилась… Мне, честное слово, жалко, что я… Я сделала глупость, я… Я ведь всего один раз оступилась.
– Такая же история произошла с одним альпинистом, вздумавшим покорить Гималии, – сообщил я. – Он тоже сделал глупость и один раз оступился. Но, знаешь, этого раза хватило. Лиля, между нами, собственно говоря, ничего особенного не произошло – ни слишком хорошего, ни чересчур плохого. Поэтому давай расстанемся на этой не столько светлой, сколько беззвучной ноте. Извини и всего тебе доброго. Увидимся в автобусе.
Я зашагал дальше. Выйдя к неширокому каналу, я побрел вдоль него по набережной. В воде канала на отраженном сером небе плавало, не дробясь, тусклое ноябрьское солнце. Я перешел по мосту на другой берег, свернул налево и вышел на Гроте Маркт, Рыночную площадь, с башней Белфорт, зданиями Суконных рядов и многочисленными ресторанчиками. Я зашел в один из них, чтобы, наконец, чего-нибудь съесть и выпить пива. Внутри было людно, накурено – в те счастливые времена в ресторанах еще позволялось курить – и очень шумно. Французской речи не было слышно совсем, говорили на совершенно непонятном мне фламандском языке. Я сел за столик, закурил сигарету в ожидании официанта и, поскольку я не был знаком с бельгийской кухней, принялся не слишком учтиво разглядывать, что едят остальные. На большинстве столов дымился в глиняных тарелках какой-то суп с мидиями, к которому на отдельных блюдечках подавали картофель фри. Пахло вкусно, и я заказал то же самое, а к мидиям и картошке – кружку темного пива. Заказывал я на ломаном французском, и несколько посетителей, весело болтавших по-фламандски, с чуть кривой усмешкой глянули в мою сторону. Официант, рослый, розовощекий и белобрысый, явно не из валлонов, равнодушно принял мой заказ и столь же равнодушно удалился.