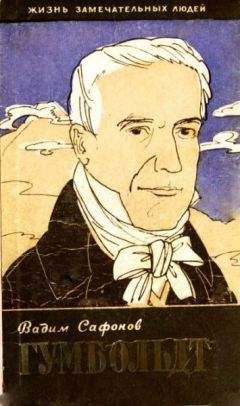Я перевела дыхание, захлопнула альбом и сказала:
– Да, мама. Ты сильнее. Пока. А я обожаю тебя еще сильнее, чем раньше. Ты прекрасна.
– А теперь, – сказала мама, – я бы, конечно, рассказала тебе, как все это было на самом деле. Но ты знаешь, у меня просто духу не хватает, не то чтобы разрушить такой совершенный образ, а даже какие-то самые маленькие поправки внести.
С меня тут же слетело все вдохновение, все те красивые возвышенные мысли, которые захватили и закрутили меня еще минуту назад, вдруг испарились, исчезли. И мне просто захотелось узнать, что же там у них с папой на самом деле случилось. Я повернула к маме свое простодушное, любопытное лицо и была уже готова спросить: «Мамочка, любимая, хорошая! Теперь расскажи, как вы поссорились с папой и почему? Я, честное слово, никому не скажу». И я была готова пробиться сквозь ее тонкие губы и жемчужные зубы, выковырять из нее что-то простое, человеческое, обыкновенное, но вдруг в эту минуту по коридору мимо двери кто-то прошел. Дверь была с матовым стеклом. Я увидела лишь какой-то контур. Худая, изящная фигура, но непонятно кто.
– Горничная? – спросила я у мамы, кивнув на дверь. Мама молчала. – Ну, в общем кто-то из слуг?
– Тебе это очень важно? – спросила мама.
– Ну, раз ты так спрашиваешь, значит, очень важно, – сказала я.
– Один молодой человек, – сказала мама.
– Ого! – и я почти неприлично подмигнула.
– Перестань, – сказала мама. – Ему восемнадцать лет.
– Ну и что? – засмеялась я. Ведь мама же мне разрешила дерзить, грубить, хамить и говорить неприличные вещи. Ведь это всего лишь упражнение. – Ну и что? Тебе ведь нет сорока.
– Прекрати, – повторила мама. – Очень хороший мальчик. Сирота. Он достоин моего усыновления.
– Ого! – сказала я еще нахальней. – Сюжет для эротического романа в духе господина Шницлера.
– Как тебе будет угодно, – сказала мама. – Ты же у нас болтушка, сочинительница.
– Тогда познакомь нас.
– Со временем, – сказала мама. – Он очень застенчив и, кажется, нездоров. Кашляет. Бывает, так кашляет, что не дает уснуть. – И, отвечая на мой взгляд, уточнила: – Хотя его комната в другом конце мансарды. Но зачем ты вносишь в наш разговор оттенок непристойности?
– Ты знаешь, папа мне тоже говорил, что я бываю непристойной, – сказала я. – Но я не нарочно. Как-то так получается. Я ведь очень приличная девица на самом-то деле. И вполне возможно, что пойду в монастырь. Понимаешь ли, эта девица, которую ты изобразила в неприличном виде с ее любовником, – я постучала рукой по альбому, – вот эта самая наша кухарка Грета Мюллер нагадала мне, что я умру невинной девушкой. То есть у меня есть два выхода – умереть до замужества или пойти в монастырь. Ты, мама, как думаешь? Ну ты подумай и потом мне скажешь. А сейчас скажи, где ты взяла этого мальчика? Кто он? Откуда?
– Дальний родственник, вернее даже свойственник, моей троюродной сестры, – ответила мама, – по итальянской линии. Итальянец. Из хорошего рода, – она даже подняла палец, – из очень, очень хорошего рода. Зовут Габриэль.
– А фамилия? – спросила я. – Ди Савойя? Колонна? Альдобрандини? Боргезе? Или, может быть, Медичи?
– Ты почти угадала, – сказала мама. – Из очень высоко вознесенной семьи, но… Но в жизни бывают всякие «но», и поэтому мы зовем его просто «князь». По-итальянски Principe.
– «Принчипе» значит не только князь, но и вообще государь, – уточнила я. – От латинского «принцепс». Первый в списке сенаторов. Так назывались римские императоры, начиная с Октавиана Августа.
– Тем лучше, – сказала мама. – Тем более что его предки действительно хозяйничали в нескольких итальянских княжествах. Поэтому прозвище Принчипе ему как раз подходит. Габриэль Принчипе.
– Он говорит по-нашему? – спросила я.
– В совершенстве, – сказала мама. – Проверь сама.
Она подошла к двери, открыла ее и крикнула в коридор:
– Габриэль, я хочу представить тебя молодой графине фон Мерзебург, своей дочери.
– Я не графиня фон Мерзебург, я Тальницки унд фон Мерзебург! – шепотом огрызнулась я.
Но спорить было уже поздно, потому что этот мальчик вошел.
Он был хорошего роста, но не очень высокий. Одет в красивый, хотя заметно поношенный, утренний костюм. Узкие светлые брюки, темный, тоже узкий пиджак и светлая рубашка. Шея повязана платком. Папа мне говорил, когда мы с ним обсуждали его лучшего друга – того самого, родовитого, но обедневшего, у которого был сын, толстый глупый мальчик – папа мне говорил, что дорогой костюм, даже сильно ношенный, остается дорогим. Поэтому небогатые, но хорошо воспитанные господа предпочитают иметь немного костюмов, но пошитых из дорогого сукна у хорошего мастера. И в этом их отличие от мелких франтиков, которые заказывают себе две дюжины костюмов из простенькой ткани модного цвета, у какого-то «надрикрояча». Папа специально употребил это простонародное слово. Означает: быстрый, дешевый и очень плохой портной.
Но на этом мальчике был правильный костюм, ношеный, но хороший. Надеюсь, что не с чужого плеча. А, впрочем, если и с чужого, то что тут страшного? Может быть, ему старший брат дал или дядя, такой же обедневший, но гордый итальянский князь.
Я дернула сама себя за язык, то есть не за язык, а за то место, которым я думала в голове. За мысленный язык, так сказать. «Экая я вдруг стала снисходительная и все на свете понимающая, – подумала я. – Я, которая готова была отвернуться от человека в оперном буфете, потому что у него чуточку лоснился пиджак. Наверное, – подумала я, – мне этот мальчик понравился».
Может быть, даже в первый раз за всю мою жизнь.
Мне никогда, нет, честное слово, никогда не нравились молодые люди, мои ровесники или чуть постарше. Я могла любоваться красивыми стариками, элегантными или величественными, или изящными и остроумными мужчинами средних лет. Даже, представьте себе, нашим силачом Игнатием и вообще деревенскими мужиками, когда они косили траву или перетаскивали бревна. У них были такие могучие спины, и так красиво перекатывались мускулы на их ручищах, когда они от жары сбрасывали куртки и оставались голыми до пояса! Но, разумеется, это было все не то. Ах, совершенно не то. Но здесь, наверно, в первый раз вдруг появилось что-то «то». Мальчик между тем стоял, выжидательно, но вместе с тем непринужденно, ожидая, очевидно, что скажет моя мама. Ведь она обещала его представить своей дочери, то есть мне. И вот он ждал, когда она скажет необходимые слова. А пока стоял, не переминаясь с ноги на ногу, но и не навытяжку. Это умение спокойно стоять явно обличало в нем человека хорошей крови и хорошего воспитания. Я рассматривала его. У него были большие, довольно широко расставленные глаза на смуглом лице, чуть широковатая переносица и небольшие, слегка оттопыренные уши. Но этого почти не было заметно, потому что у него была густая черная шевелюра, аккуратно подстриженная и уложенная. Лицо было задумчивое, и в глазах было что-то болезненное. Как будто он только что думал о чем-то неприятном, трудном, беспокоящем. Но вот сейчас пытается избавиться от этих мыслей, чтобы начать светскую беседу.
– Рекомендую тебе, – сказала мама, – мой молодой друг князь Габриэль. – Я протянула ему руку. – Моя дочь, – сказала мама, – Адальберта-Станислава.
Я тут же подхватила и продолжила:
– Тальницки унд фон Мерзебург.
Мальчик, почему-то я в уме назвала его мальчиком (видно было, что ему самое большее двадцать лет), взял мою руку, склонил голову и прикоснулся к моим пальцам сухими горячими губами. Не поцеловал, конечно, просто прикоснулся.
– Buon giorno, principe[10], – сказала я.
– Buon giorno, – ответил он, улыбнулся и продолжил уже по-нашему: – Но давайте не будем по-итальянски. Мы же не в Италии.
– Давайте, – сказала я. – Как вам Штефанбург? Давно ли? Бываете в опере?
– Штефанбург прекрасен, – сказал он. – Не хуже Будапешта. Я здесь недавно. В опере не бываю – не люблю.
– Отчего же? – я подняла брови. – Это, можно сказать, ваше национальное искусство.
– Как-то так, – он развел руками. – Я слышал, что французы не любят жареных лягушек, а русские терпеть не могут игры на балалайке. Национальный тип навязывается нам извне. Все люди разные. Есть итальянцы, которые любят оперу, а есть и такие, которые ни разу в жизни не то что не проронили музыкального звука, но и не слышали ничего, кроме грубых рыбацких песенок.
– Вы имеете в виду неаполитанские песни?
– Отнюдь нет. Неаполитанские песни – это род искусства, а искусство занимает в жизни людей гораздо меньшую часть, чем… – и он замялся.
– Чем что? – спросила я.
– Чем деньги, – вздохнул он и развел руками, – или чем политика.
– К сожалению, вы хотите сказать? – спросила я.
– Зачем жалеть о том, чего не исправишь…
– Как знать, – подала голос мама. – Если рассуждать столь рационально, то тогда и вовсе поговорить не о чем. Ни о погоде, ни о жизни и смерти, не говоря уже о ценах в магазинах или результатах скачек. Ни на что из перечисленного, да и вообще на девять десятых, а может, даже на девяносто девять сотых из всего происходящего в мире – мы не имеем никакого влияния. Прикажете молчать? Или рассуждать о том, какое колечко на какой палец надеть? То есть о том, что наверняка в моих руках? – И она засмеялась.