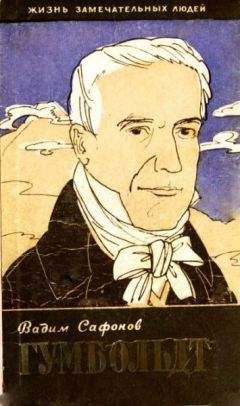– Я хочу услышать, как было на самом деле, – сказала я.
– А я не знаю, как было на самом деле! – даже с некоторой злостью сказала мама. – И кому какое дело, как это на самом деле? И есть ли оно на свете – это самое ваше хваленое «самое дело»? Вот ты! Как ты на самом деле ко мне относишься? – спросила она. – Почему ты за все это время, ну, не за всё, а лет с двенадцати начиная, почему ты ни разу не написала мне письмо?
– Куда? – спросила я. – Я спрашивала у госпожи Антонеску твой адрес. Она ответила, – и тут я скорчила самую ужасную из всех своих рож, – что честь не велит ей выдать твой адрес. А мы же с тобой понимаем, что выше чести на свете нет ничего! – Я привела щеки и губы в нормальное положение и сказала: – Так что сама видишь, твой упрек не годится.
– Да я и не собираюсь тебя упрекать, – отступила мама. – Но ты могла хотя бы госпоже Антонеску передать, что ты скучаешь. Да, да, ты не знала, что госпожа Антонеску пишет мне письма каждый день. Ты узнала об этом в самый последний день. Хорошо, хорошо. Но она могла написать: «Далли все время о вас спрашивает, графиня. Она скучает без матери. Она нашла ваш портрет в старом альбоме. Она расспрашивает отца о вашей свадьбе» – и так далее, и все такое прочее. Если девочка тоскует по своей маме, то ее гувернантка всегда заметит это. Если бы ты скучала по мне, госпожа Антонеску это бы увидела и обязательно мне написала.
– Это вопрос не ко мне, – сказала я. – Это вопрос к гувернантке. К госпоже Антонеску, я имею в виду. На самом деле я, конечно, по тебе скучала, – сказала я. – Ну, может быть, не так, как дочери приличествует скучать по матери. Я не расспрашивала про свадьбу и не искала твоих фотографий. Твоя фотография была только одна – свадебная, и притом одиночная. Очень странно. Если ты, конечно, это помнишь. У вас ведь с папой не было общей свадебной фотографии, где вы стоите под ручку. Две отдельные. Папа во фраке и ты в белом платье. Два снимка. В двух рамочках красного дерева с бронзовыми украшениями, в этом омерзительном стиле модерн. Они до сих пор стоят в книжном шкафу в дедушкиной комнате. Дедушка умер, это ведь при тебе случилось, но его комнату мы сохраняем.
– Я знаю, – сказала мама. – Госпожа Антонеску мне писала.
– Я мечтала о тебе, фантазировала, сочиняла про тебя истории, – сказала я. – Я пыталась представить себе, какая ты на самом деле. Да, да, на этом самом хваленом «самом деле», которое ты зачем-то так ненавидишь. А оно есть, мамочка. Потому что если его нет, то тогда нет вообще ничего. Я должна была вообразить себе, что ты лучше, лучше всех и даже лучше папы. Потому что мама – это и есть я. И поэтому мама должна быть права всегда и во всем, и даже в том, что она ушла от моего прекрасного обожаемого папы, и даже, даже, даже, представь себе, права в том, что она бросила меня. Только, ради бога, мамочка, сейчас молчи и не говори «я тебя не бросала» или «эта семейка Тальницки не отдала мне моего ребенка» и все такое. Не надо. Не в этом дело. Дело в тебе. Ты самая лучшая на свете. Нет никого красивее тебя. Я совсем недавно, смешно сказать, наверное, в первый раз раздевалась сама. Раньше мне помогала госпожа Антонеску, а сейчас эта самая Милли-Мицци. У нас в ванной комнате нет большого зеркала. Большое зеркало только в моей спальне. Я, смешно сказать, буквально месяца три назад оказалась наедине с собой в голом виде. Я смотрела на себя, и мне было стыдно. У меня короткие некрасивые ноги. Икры, похожие на хлебные батоны. Стопы еще ничего, но подъемы с какими-то горбинками. А выше – вообще ужас и кошмар. Узкая грудь, некрасивые большие соски на плоских грудках, ребрастые бока, плохо завязанный пупок и выпирающие ключицы. Я думала: «Боже мой, а моя мама – она ведь красавица». Я не видела тебя голой, но я уверена, что ты прекрасна, как лучшая в мире статуя, как лучшая в мире картина, и уж, конечно, в сто раз лучше самой лучшей красавицы из кабаре, из тех, которые показывают свои красоты со сцены. «Ну ничего, – думала я. – Может быть, я немножко растолстею, округлюсь животом и плечами, и все это будет не так страшно. Но никогда не буду такой прекрасной, как моя мама». Но я не завидовала тебе. И, если честно, не жалела себя. Потому что, несмотря на этот ужасный рассказ честного зеркала, я все равно казалась себе самой красивой на свете, потому что ты была во мне, потому что я была тобою… Я на самом деле была ты! И я знала, что ты очень талантлива, что ты не просто так ходила во все эти литературные салоны, что ты знала и понимала поэзию и вообще искусство. Тоже – лучше всех понимала и чувствовала. Ты была своенравной и резкой, а значит, свободной от глупых условностей, которые налагает на нас общество. Ты не сюсюкала, не раскланивалась, не говорила «ах, как мило», если это была какая-то банальность или бездарность, не говорила «как я счастлива познакомиться с вами», если хотела сказать «пошел вон!» – и ты всегда говорила именно так: «пошел вон!», «какая бездарность!» А если ты просила чего-нибудь – то без «пожалуйста», без экивоков и церемоний, просто как будто бы приказывала, то это говорило лишь о кристальной чистоте твоей души, о том, что тебе чуждо всякое лицемерие, всякое приспособленчество, всякое рабство. Вот почему папа так полюбил тебя. Такие люди, как ты, нужнее миру, чем святые подвижники и даже чем простые труженики полей и фабрик, хотя на них вроде бы держится земля. На них, да не на них. Нужна скала посредине моря. Одинокое дерево в поле. Нужен маяк. Взмах руки из толпы. Нужен призыв к свободе. Ты и есть свобода, мамочка. На самом деле. На моем самом деле. Сейчас ты можешь рассказать мне, что живешь небогато, что выпрашиваешь деньги у родственников, что скована тысячью условностей. Ты можешь расстегнуть свое платье, снять бюстгальтер и показать мне, что у тебя тоже некрасивая грудь. Но я не поверю. Даже если ты сейчас разденешься передо мной, я всё равно увижу прекрасную мраморную статую и скажу: «Боже, как ты совершенна, мамочка! Ты лучше всех. Ты лучше папы. Ты имела право сделать все, что ты сделала».
Я замолчала, склонила голову и стала машинально листать альбом, взволокши его себе на колени. Мама тихо присела рядом. Она ничего не говорила. Мне показалась, что я очень ее чем-то огорчила. Долистав альбом (а там было много чего из городской жизни тоже. Оказывается, госпожа Антонеску писала письма не только из имения, но и из города. Там было и кафе, и театр, и бал, и катание на коньках) – долиставши альбом, я отодвинула его в угол дивана и взяла другой, сделанный точно так же. Такие же вырезанные кусочки из писем и красивые подробные акварели.
– Я же говорю, мамочка, что ты талантливая. Ты настоящая художница, – сказала я. – Неужели ты никогда не рисовала ничего другого? Может быть, ты могла бы выставлять свои картины, если б захотела? У тебя бы обязательно получилось.
– Что ты, девочка! – сказала мама. – Я на самом деле немножко разбираюсь в искусстве. Это не искусство. Это так, дамское рукоделие.
– Ну уж, – сказала я, листая дальше.
И вдруг вздрогнула.
На картинке была нарисована я, стоящая у себя в спальне и что-то брезгливо держащая двумя пальцами. На следующей картинке, на том же листе, потому что листы были большие и часто там умещалось несколько картинок, как на газетных карикатурах, вроде рассказа в картинках, – а на следующей картинке я разговаривала с Гретой около дверей кухни. Очень красиво была нарисована плита, из которой вырывается пламя. А Грета стояла в своих носках и сандалиях и что-то объясняла мне. Значит, на предыдущей картинке я держала в руке длинный Гретин волос! Потом мы с Гретой сидели на лавочке и разговаривали. У меня просто сердце забилось. Я перелистнула страницу. О, Боже! Там было совершенно натурально нарисовано, как Грета занимается любовью со своим Иваном, а я подсматриваю с чердака. Честное слово, я первый раз в жизни увидела такую картинку, хотя слышала от своих штефанбургских подружек, что бывают такие открыточки, так называемый парижский жанр. Мне даже предлагали посмотреть, но я брезговала. И правильно делала. Это и в натуре-то довольно противно, а на картинке, особенно если акварелью тонкой кисточкой – вообще кошмар!
– Так, так, – сказала я маме и ткнула в это безобразие пальцем. – Значит, госпожа Антонеску за мной следила? Ходила по пятам, как шпион? Откуда она это знала? Она подкупила Грету? Грета донесла? Или она сама рядом была, в соседней куче соломы? Что происходит? Какая мерзость! И как ты могла это нарисовать? Ты, – сказала я ей, – ты просто мерзавка. Нет, конечно, правильно, что ты от нас уехала, что оставила меня с папой. Это единственный твой правильный поступок. Только не вздумай полезть в драку. Может, ты и сильнее меня, но тебе тоже достанется! – и я приготовилась отбить мамину ладонь от своей щеки.
– Правильно, – кивнула мама. – Ты хочешь быть на меня похожей: свободной, дерзкой, капризной, не выбирающей выражения. Ты же сама сказала «я как мама». Поэтому я расцениваю твою дерзость, твою наглость и твое не входящее ни в какие рамки хамство – как упражнение. Давай, милая Далли, упражняйся дальше. Будь, как мама.