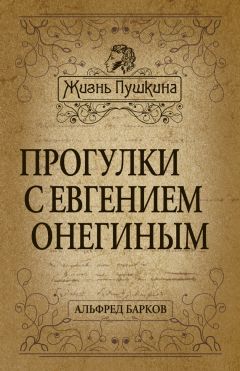Алла Сергеевна упала на колени, уткнулась лбом в его руку и затряслась в беззвучных рыданиях.
Он ушел второго апреля, на несколько дней пережив дату ее рождения и не сумев завалить ее цветам и подарками. К несчастью для нее медицина в его случае знала больше, чем могла.
Как ни предсказуем был финал, он ее потряс. Ею овладело тошнотворное, истеричное, близкое к помешательству отчаяние, которое не смывается никакими ручьями слез. Доктор, вызванный приехавшим ночью Маркушей, вколол ей успокаивающее и потом держал ее на уколах еще несколько дней.
Похороны она помнит плохо. Помнит поддерживающих ее под руки мать и Нинку. Помнит чужие размытые лица и сына, с недетской серьезностью уговаривающего ее: «Мама, мамочка, не плачь!».
Нинка потом вспоминала:
«Сначала в каком-то большом зале прощались, потом в церкви отпевали. Народу было – ужас! Не представляешь, сколько было народу! Очень много важных людей, и даже знаменитые артисты! И все горевали, а многие мужики слезы утирали. Точно, точно, сама лично видела! К тебе все по очереди подходили и сочувствовали, а ты не отвечала и ничего не понимала, потому что врач, который все время был рядом с тобой, заколол тебя до тупого равнодушия! Потом поехали на кладбище, и там тоже многие выступали, но лучше всех сказал один знаменитый артист. Да ты его знаешь, он в кино давно снимается! А венков-то, венков сколько нанесли!.. И цветов!.. Весь участок завалили, представляешь? Неужели не помнишь? Слушай, Алка, а мне Петенька предложение сделал! Представляешь?»
Когда через несколько дней она смогла обходиться без уколов, и Петенька отвез ее с матерью и Нинкой на кладбище, она, не сдерживая, наконец, живое глубокое страдание, упала на усыпанную цветами могилу и в голос, по-бабьи завыла.
«Поплачь, доченька, поплачь! – говорила, поддерживая ее по пути к машине, Марья Ивановна, сама шмыгая носом. – Живые твои слезы, живые!»
Затем последовала депрессия.
Днем ее одолевало вялое состояние принуждения, нелюбимое зрением за навязчивую яркость мира. Буйные весенние блики оставались на изнанке зажмуренных век ядовито-зелеными, долго негаснущими инфузориями, разваливался висок, выворачивался глаз, а дрожание твердых с виду рук выдавалось испуганным подрагиванием ложки, не желающей лезть в рот. Она перестала за собой следить, не желала никого видеть и подолгу не покидала спальную. Лежа на их общей кровати, растрепанная, с опухшим от слез некрасивым лицом, она закрывала глаза, и ей казалось, что Клим где-то рядом, что она слышит его скрытый огромной квартирой голос, и что он вот-вот появится. Но он не приходил, и она принималась тихо плакать. Иногда она истязала себя тем, что прикладывала к лицу его любимую, сшитую ею шелковую рубашку и медленно втягивала трепещущими ноздрями слабеющий мужнин запах.
Ночью ее терзали обильные, подробные, тесные сны. В них она вместе с живым Климом вновь проживала их совместную жизнь. Иногда к прожитому присоединялись сцены из неведомого мира, где существовал обнесенный розовыми кустами белокаменный дом, в котором и вокруг которого развертывалась драматургия чужой жизни. Например, незнакомые мужчина и женщина, молодые и сияющие, могли выйти из дома, бесшумно подняться по густой траве на пригорок и смотреть оттуда на изумрудно-голубой горизонт у себя под ногами.
Во сне бывало, что Клим звонил ей и назначал встречу, и она спешила, бежала, летела к нему, но кто-то мешал и преследовал ее. В конце она оказывалась в ловушке, пыталась выскользнуть, но сил не было, и она просыпалась в поту и с бьющимся сердцем, а утром чувствовала себя так, словно тот, кто разобрал ее во сне на части, не успел собрать до конца.
Ее беседы с тишиной никто не тревожил. Через день наведывался Маркуша, и она, кутаясь в халат, отвечая невпопад и совершенно не вникая в то, что он говорил, сидела с ним на кухне, пока он пил кофе.
«Поправляйся, Алла!» – говорил он, уходя, чтобы снова прийти через день.
Всю заботу о Саньке взяла на себя Марья Ивановна. Внук и бабушка быстро поладили. Сидя в гостиной и закрыв глаза, Алла Сергеевна прислушивалась к сдержанной перекличке их голосов за дверью и, находясь во власти безволия, пыталась назначить событие:
«Пора вывозить их за город…»
Порой она покидала спальную и слонялась без дела по квартире, не зная, где остановиться. Садилась перед телевизором и, глядя на мужские головы, думала:
«Сколько никудышных, пропащих, тупых мужиков продолжают жить, а Клима нет!»
Нинка жила у Петеньки, и иногда она просила ее приехать. Нинка с готовностью приезжала и окружала ее жалостливым и приторным, как абрикосовое варенье участием, сквозь которое неудержимо пробивалось ее белокожее, рыжеволосое, сдобное счастье. Ее присутствие вскоре начинало тяготить Аллу Сергеевну и она, ссылаясь на головную боль, пряталась от нее в спальной.
Бессильная что-либо изменить в настоящем, она мысленно возвращалась в прошлое, пытаясь нащупать там истоки беды и отвести ее от Клима хотя бы сослагательным образом. Вопиющая недоработка сложнейшей человеческой конструкции, несоразмерная разница между ничтожностью врага и причиненным им злом, а больше всего неотвратимость и необратимость их смертельной метаморфозы до сих пор не давали ей покоя. Почему-то ей казалось, что беда случилась в августе, когда убаюканный средиземным благодушием могучий организм мужа не доглядел, не насторожился, не спохватился. Может, проклятая клетка сорвалась с цепи именно в тот момент, когда он обнимал ее и называл своей Афродитой? А может, когда они брели вдоль кромки вечернего моря, и ее одолевала спокойная заслуженная гордость? Или когда они в плетеных креслах сидели на веранде и, ощущая себя частью заката, прислушивались к раскатистому голосу волн, что при полном безветрии выкатывались из глубины на песок и, сбросив груз пучины, с облегчением растягивались на нем?
«Боже мой, ведь это больше никогда, никогда не повторится!» – ужасалась она и принималась плакать. Слезы возвращали ее в суровое настоящее.
«К чему эти изыскания, – одергивала она себя, – если теперь от них никакой пользы! Вот если бы я была колдунья – ах, если бы я была колдунья! – то нащупав проклятый день, я могла бы вычеркнуть его из нашего календаря, каким бы памятным и счастливым он для нас ни был!»
Эти размышления возбудили в ней неясное беспокойство, которое быстро оформилось в жгучую тревогу. Она позвонила уже знакомой ученой даме, чьи прогнозы оправдались самым зловещим образом, и спросила о том, о чем давно уже следовало спросить, а именно: что теперь будет с ее сыном, который есть плоть от плоти, кровь от крови ее покойного мужа. Неужели же и его ждет та же участь?
«Ну что вы, вовсе не обязательно! – успокоила ее ученая дама. – На самом деле этим может заболеть даже совершенно здоровый человек! Наследственность есть лишь один из рисков, и для того, чтобы запустить ее механизм, нужны очень и очень веские основания. Мы об этом с вами как-нибудь еще поговорим…»
Это был ее первый звонок во внешний мир.
А вернул ее к жизни (если, конечно, ее обездоленное существование можно назвать жизнью!) все тот же творческий голод, что словно мальва вырос и распустился на пустыре ее души. Это неприхотливое растение с прямым, снизу пушистоволосистым, а выше голым стеблем, с черешковыми, округло-серцевидными опушенными листьями, с глубоковыемчатыми, продолговато-обратнояйцевидными розовыми лепестками с тремя темными продольными полосками имеет удивительное свойство облагораживать сорную реальность. Рекультивируя сердечную почву, мальвы творчества освобождают ее от засушливых последствий горестного опыта и питают гранулами грез, что содержатся в сострадательном снадобье сна.
И снова сны подсказали ей идею действа, которым она отметит годовщину его ухода. Это будет не очередная коллекция, а красочный, чувственный, единственный в своем роде музыкальный спектакль. Эпохальная история Любви и любовная история двух влюбленных, которые, расставаясь в одной эпохе, неминуемо находят друг друга и соединяются в другой, пока не оказываются в том времени, где их ждет обнесенный розовыми кустами белокаменный дом с изумрудно-голубым горизонтом.
С той же силой, с какой она предавалась отчаянию, она отдалась своему замыслу. И хотя скачок с одного полюса настроения на другой был коротким и стремительным, он стал для нее скорее целительным, чем разрушительным.
Она договорилась с серьезным театром, что при ее деньгах было не трудно. Ей рекомендовали либреттиста, балетмейстера и композитора – все трое молодые, талантливые, честолюбивые, и она, собрав их, изложила идею и обозначила сроки. Все трое в один голос воскликнули, что это никак невозможно, и тогда она посулила им такие деньги, от которых честолюбивая троица тут же впала в состояние перманентного вдохновения.
Вместе с художниками по костюмам Алле Сергеевне удалось совместить историческую строгость со сценической вольностью, и когда через несколько месяцев замысел, соединив отдельные части, обрел очертания, стали всем миром нащупывать его единственно верную редакцию.