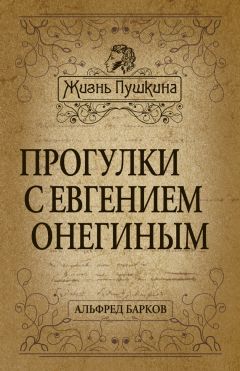Затем он осторожно, можно даже сказать – благоговейно поставил коробку на стол, откинул крышку и извлек туго перетянутую голубой лентой пачку толщиной в два кирпича.
«Вот, смотри…» – с неловкой гордостью предъявил он увесистое свидетельство своей пожизненной верности. Был он в этот момент похож на лохматого, больного, постаревшего пса, в молодом порыве отрывшего и сложившего к ногам хозяйки заветную косточку. Запоздалая виноватая признательность против воли перехватила ее горло. Вслед за тем пришедшие на память обрывки давних восторженных признаний заставили ее покраснеть.
«Господи, неужели я так много написала!» – усмехнулась она, пытаясь скрыть смущение.
«И еще как написала! – ласкал ее увлажненный Сашкин взгляд. – Я постоянно их перечитываю… Знаешь, я все время думаю…»
Почувствовав, что осмелевший Сашка вот-вот стронет с места лавину интимных воспоминаний, попасть под которую она ни в коем случае не собиралась, Алла Сергеевна решительно поднялась со стула:
«Ладно, Сашенька, мне пора! Да, кстати, вот новость: Нинка вышла замуж за моего водителя, живет в Москве и стала, наконец, счастливее меня…»
Он заторопился узнать подробности, но она прервала его:
«Запиши-ка номер моего мобильного и звони, если что…»
Ее предложение удивило его даже больше, чем новость о Нинке. Оставив на его изумленной щеке безжизненный поцелуй, она ушла.
Через день по ее поручению ему доставили новый компьютер и большую сумку продуктов. Он позвонил и сказал, что ее забота ему, конечно, приятна, но продукты присылать больше не надо – он не голодает. И потом, у него диета.
К ее удивлению, он не замучил ее звонками, а напротив, подолгу не давал о себе знать, так что ей самой приходилось звонить ему и выяснять, куда он делся. Невзирая на его протесты, ее люди два раза в месяц привозили ему продукты, против которых, как она выяснила, его болезнь не возражала. Так продолжалось до последнего времени, пока две недели назад он не позвонил и не предупредил, что ложится в больницу. В ответ она обещала навестить его и поговорить об одном очень важном для него деле. Неделю спустя он снова позвонил, но она, находясь на важном совещании, не ответила, решив, что обязательно будет у него в ближайшее время, а значит, скажет ему то, что по телефону говорить никак нельзя.
Впрочем, все это лишь внешняя сторона тех событий, из которых сложились два года ее вдовства. В них нет томографии ее души, в них отсутствует топография ее сердца, их цепкому живучему сцеплению невдомек, что внутри нее по-прежнему пустыня, ночь и плачущие звезды. И то сказать: какой может быть порядок в сошедшем под откос поезде!
Разнообразием оказий и резонов последние шесть месяцев ни в чем не превосходили прочих. Если, конечно, не считать, что месяца два назад внутри ее пасмурного мира возникла и забилась беспокойная изыскательская жилка. Ее стали посещать крамольные мысли. Например, она думала:
Да, модельеры смотрят на моду совершенно иначе, чем потребители. Да, в первую очередь они художники, и творчество для них – вечная погоня за жар-птицей прекрасного. Да, красота бесконечна, и художник-модельер обречен охотиться за ее воплощениями, что разлетелись по миру словно бабочки. Только вот какой прок ее разоренной душе от того, что она поймает еще с десяток бабочек, которые через год все равно околеют, дав ветреной богине моды повод отречься от них? Что ей с того, что украсив собой десяток Нинок, бабочки эти трепетом своих крыльев распалят животную страсть их Петек, Васек, Мишек, Колек? Зачем ей, богатой и независимой, их признательность, и какое ей дело до их блеющего, пыхтящего, потного счастья?!
К тому же окончательно расстроился и не хотел звучать ее совсем еще недавно ясный и мажорный мир.
«Куда делся тот молодой радостный хаос, в котором порядка и поэзии было не меньше, чем у звездного неба?» – вопрошала ее ушибленная душа.
Завяли его сочные восходящие травянистые стебли. Поникли короткочерешковые, цельнокрайние, пальчатолопастные, узколанцетные, перисто-раздельные, зубчатые, опушённые, длиннореснитчатые, эллиптической, овальной, яйцевидной, продолговатой и почти линейной формы листья зелёного или серого из-за густого опушения цвета.
Засохли прицветники с чашечками, на три четверти или полностью рассеченными на пять гладких либо опушённых эллиптических или линейно-ланцетных реснитчатых долей, из которых одна недоразвита, две средние вдвое, а пятая втрое короче передних.
Осыпались пыльниковые без чашелистиков цветки с раздельными гнёздами и раскрывающимися пыльниками, отпылали пестичные цветки – голые или с чашечкой из четырех-шести небольших чешуек, с цельными или двунадрезными столбиками с головчато расширенными на конце или на внутренней стороне рыльцами.
Остались в прошлом сочленённые с прямостоячей цветоножкой, сладкие, как спелая слива ягоды с мясистым бледно-розовым покровом и с головчато-расширенным надрезным рыльцем на конце.
Пышные сплоченные пучки типчака, жесткий тимьян, белокровный молочай, желтые пятна заблудившейся люцерны, горько и громко вздыхающая полынь, отпылавший изумрудный горицвет, стрелорукий с синеглазым перископом ирис, долговязые тонкоплечие многоголосые ромашки, нетребовательный мужиковатый подорожник, самодовольный конский щавель, устремленная к небу опушенными стеблями и супротивными листьями вероника, несгибаемый, с колючим взглядом и красными прожилками на теле и руках гренадер-репейник, медовая кашка в пчелином облачении, спешащий на волю ковыль – весь этот ее дивный, переливчатый, задыхающийся мир ныне оцифрован, откалиброван, оскоплен, втиснут в прокрустово ложе “Pantone”, затянут в лощеный глянец и унижен самодовольной офисной суетой.
Убаюканная пульмановским комфортом счастливого супружества с его мудреющей телесной страстью, чьи размашистые шлепающие ухабы незаметно выровняла нежная материнская забота о стареющем муже, она чувствовала себя теперь, словно проспавшая свою станцию пассажирка, которую скорый, лишенный стоп-крана поезд уносил в неуютные, неведомые края все дальше и дальше.
Ее раздражали бессовестные ремесленники, их деловитая возня вокруг жаркого олимпийского огня, их расчетливый и хладнокровный цинизм, превращающий высокую моду в потешное зрелище вроде бразильского карнавала или русской масленицы.
Раздражал пещерный эгоизм молодых, попирающих вкус неразборчивостью, а свободу – развязностью. Еще бы: им известны правила композиции, законы формы и цвета, взаимодействие объема и фактуры, выразительность контраста и подобия, вкрадчивая убедительность нюанса. Им кажется, что они придумали новую игру под названием «дресс-код», а на самом деле они по-прежнему режутся «в дурака», не понимая, что для истинного успеха нужна колода совсем других карт. Ибо то, что вчера было «да», сегодня уже есть «нет», а завтра будет ни да, ни нет.
Да, конечно, модельер может изменить облик человека и наполнить его радостным ожиданием. Но вот что ему не по силам, так это изменить его судьбу. Носите ли вы кринолин или маленькое черное платье, фрак или джинсы – лекала судьбы неизменны и моде неподвластны. А как, скажите, может быть по-другому в мире, где правят любовь и ненависть, белое и черное, а все прочие цвета есть лишь их подголоски?
Таков был нынешний фасон ее мыслей, такова была промежуточная правда ее жизни, чей сужающийся силуэт решительно избавлялся от рельефов, складок, натяжек, слабины, излишков, морщин и заломов молодости. И все же не эти ворчливые горчащие открытия питали ее неуютное одиночество – с ними она так или иначе поладила бы. Другое – безотчетное и повелительное, с некоторых пор беспокоило ее: ей до навязчивости, до зудящей прихоти хотелось знать, чье она воплощение и чью судьбу повторяет!
Дело в том, что в вещих проблесках снов ей привиделось, что все пережитое ею уже случилось с ней – той, прошлой, кринолиновой – раньше. Иначе, зачем напряженным бисером проступают сквозь поры ее сонной души смутные стремления и влечения, похожие на призыв завершить однажды начатое? К чему эти чужие сны с их опережающими возраст фантазиями, старческой рассудительностью и обнесенным розовыми кустами белокаменным домом? Зачем эти пугающие déjà vu, vécu, entendu, baisée, aimée, hainé, эти далекие туманные озарения, смутные приступы сожаления, глухие всплески соучастия и неясные отблески былых грез? Полное впечатление, что тропинка, по которой она движется, уже проложена кем-то другим! Неудивительно, принимая во внимание, что все тропинки ведут в Рим, то бишь, в вечность…
Но хуже всего то, что она точно знает, что будет с ней дальше! А дальше будет несколько лет вдовства, затем сановный брак и вельможное благополучие – со всеми вытекающими из него последствиями, вплоть до бронзового слабоумия. Неужели этому и вправду суждено быть? Какое пошлое продолжение, какой удручающий исход! Не жизнь, а сплошной плагиат!