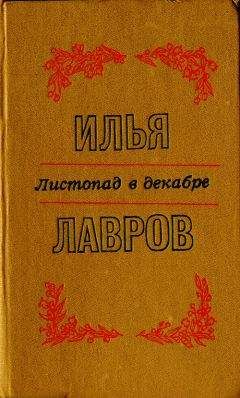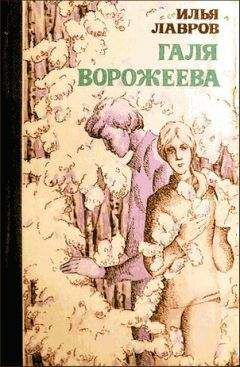Мы тогда думали застать в апрельском лесу снег, воду. По низу березовой рощи частоколом белели только одни стволы — ни травинки там, ни кустика, земля была устлана бурыми листьями, а сквозь них пробивались желтовато-белые, лохматые подснежники, омытые талой водой. Мы пошли к ним, и вдруг ногами ощутили твердь. Оказывается, под бурой листвой таился снег. Вон среди желтой травы белеет он, ручей пропилил в нем извивы.
Мы подошли к одной из берез. Она удивила нас тем, что ствол ее во многих местах сочился. Сочились все ее ранки, трещины, шишки от обломанных сучьев. Корни березы, как могучие насосы, гнали по стволу сок, и он пробивался сквозь кору, пенился в зарубках, струился по ней, капал с обломков ветвей.
Помнишь, я тогда воскликнул: «Какая силища жизни!»
И по нашим телам молодые, гулкие сердца тоже напористо гнали горячий, бруснично-красный сок…
А ночью ударил морозец. На другой день мы снова отправились к нашей березе. И она открыла нам маленькое чудо. На ней сверкали сосульки. Поблескивал ствол ледяными наростами. И даже у ее подножия на земле возвышались ледяные горки и натеки.
— Да ведь это же березовый сок, — изумилась ты.
Я отломил хрупкую сосульку и дал тебе: «Пососи леденец березы!» И себе отломил сосульку. И мы сосали сладковатый, освежающий березовый сок, и эти прозрачнейшие леденцы казались нам целебными. Ты поцеловала меня, и твой поцелуй пахнул березовым соком.
Да было ли это или не было? Дарил я тебе леденцы березы или это, в глубине десятилетий, только почудилось мне?
Если эти леденцы были, так почему же они не исцелили тебя? А может быть, я мало тебе их дарил? Мало?
Соседка моя училась в университете вместе с парнем из Италии. Они полюбили друг друга, и он увез ее в Милан.
Наша синеглазая, белокурая переселилась в не наши края, оставив и мать с отцом, и братьев с сестрами. Из сибирячки она превратилась в синьору. Такое не часто, но — случается.
Мне страшно за вас, уходящие в другие страны. Велика ваша ошибка, когда вы решаете, что любовь к мужчине сильнее любви к Родине. За эту ошибку — если вы не пустышки — вы будете наказаны вечной тоской, вечным ощущением бездомовья, которое, наверно, испытывают птицы на весеннем перелете.
Но птицы отдохнут на чужом побережье и улетят на родину. А для вас, синьора, уже нет пути к ней, ибо вы сменяли ее, ничего не выменяв. Вы надеетесь обрести покой и счастье под чужим, заморским небом, но обретете только ощущение вокзала, на котором не живут, а всего лишь делают пересадку. Как бы вы ни сплетали свое гнездо на иной земле, вы все равно будете сидеть в нем на чемодане.
Вы думаете — родина покинет ваши сны? Нет, она всегда будет с вами. И поэтому ваши дети, сибирская синьора, будут для вас иностранцами, говорящими на чужом языке. И вы будете ласкать их, разговаривая с акцентом. У вас и у них окажутся разные родины.
Мне жалко вас, Синьора! Вы станете лепить пельмени, печь блины и пирожки, но русские блюда не свяжут ваших детей с вашей родиной…
Мне делается не по себе при мысли, что некоторые внуки и правнуки Пушкина говорят не на его языке. И не могут они прочитать его книги. Они даже не могут представить, что значит их великий предок для великого народа…
Дочь божественного поэта зачем-то поспешила в иную страну.
Бог ей судья!
Вы плачете, синьора?
Как бывает нелегко идти с вокзала и знать, что уже никогда не встретишь человека, с которым только что расстался.
Таким чувствуешь себя ограбленным, а город — опустевшим. И ты не находишь места. И тебе страшно быть с вещами, с городом, среди которых и в котором жил и двигался уехавший человек. Он касался этих вещей, он смотрел на эти здания. И вот его нет. А вещи, а город стоят все так же. Незыблемо стоят.
Но они — опустели. Они приобрели совсем другой смысл. Они превратились в напоминание…
Хожу по городу. И хоть день сияюще ясный, он для меня в тумане.
Пасмурно, зябко, бесприютно…
Пока еще с тобой дорогие тебе люди, а ты еще с ними — обнимай же их теплые плечи, смотри в их глаза, слушай их дыхание, пока они еще с тобой. А то ведь настанет время, и ты уйдешь в неведомое, а еще хуже — может уйти раньше тебя кто-то из них. А ты не долюбил его, не вернул ему свои душевные долги, не успел протянуть ему руку, когда он прыгал через канаву, не одарил его своим лучшим яблоком, своим лучшим виноградом…
И ты, заря утренняя, и ты, заря вечерняя, и ты, сверкающий дождик в глубине солнечного сада, и ты, поле мое, — все вы зовете меня.
Иди же к ним и не проспи их, вспаши, и засей свое поле, и расстели его для бегущих по улице мимо тебя, для едущих в трамвае рядом с тобой…
Приветствую вас, спутники мои, славлю вас, полночи и зарницы мои!
Я спешу к вам…
Где вы, кони мои, кони белые и рыжие, кони вороные и серые в яблоках? Я скакал на вас только в мальчишеских снах… Грозно стучали копыта в темной степи, в гулком лесу, на улицах пылающих селений, и в руке моей сверкал клинок, а за плечами развевалась, как знамя, чапаевская бурка, и зычное ржание повергало врагов в ужас…
Неужели я не удержусь на тебе, конь мой, если вскочу в седло, чтобы мчаться к кому-то, мчаться с целебным снадобьем в суме, или с ковригами спасительного хлеба во вьюках, или с поющей любовью в груди?..
Кони храпящие, с летучими, раскаленными копытами, с яростными мордами в зеленой пене, умоляю вас — во имя моей ноши не сбрасывайте меня, неумелого всадника.
Вы стелитесь над землей вещими птицами, вы несите меня к ждущему и страждущему.
Человек протопал по гулкой лестнице, хлопнул внизу дверью.
Следом, из квартиры, торопливо вышла моя соседка с красными от хны волосами.
Тусклая лампочка освещала пустую лестницу и густое, синее облачко папиросного дыма. Женщина, сдвинув черные брови, пристально смотрела на него. Облачко всплывало к ней, словно всходило по лестнице. Так оно поднималось долго, нехотя. Вот стало вытягиваться, делаясь все прозрачней, длинней. И где-то уже в двухтрех шагах от женщины совсем растаяло. До нее, наверное, долетел только запах дымка.
Пуста лестница, пуста площадка на третьем этаже. На желтых и голубых плитках валялась горелая спичка.
Соседка тихонько вернулась в свою квартиру. Звонко щелкнул язычок замка…
Застекленные рамы длинной теплицы завалены снаружи снегом. А в теплице влажный, банный воздух, по-весеннему пахнет землей и зеленью. Тянутся три стеллажа внизу и три под прозрачным потолком. На стеллажах сплошная зелень, пестрота цветов. В глиняных горшках и ящиках растут белые, розовые, лиловые хризантемы, примулы, ярко-алые гвоздики. Ночами вместо солнца над ними горят большие лампочки под жестяными абажурами.
Между стеллажами цементные дорожки в лужицах после поливки цветов. В углу бассейн, в него с шумом хлещет вода из крана. На голубых рамах теплицы висит множество сияющих капель. Они срываются на цветы, шуршат в листьях. По запотевшим стеклам пробегают извилистые струйки.
В теплице живут три непоседливых синицы. Они перепархивают среди цветов, хрустально цвинькают.
Женщины в синих халатах ощипывают засохшие листья, рыхлят землю в горшках, поливают из леек яркие цинерарии.
Эта теплица — словно маленькое лето, словно воспоминание о дорогом и утраченном.
Смотрю на примулы и боязно мне. Такие они хрупкие, беззащитные, а рядом с ними, за тоненьким стеклом, — сугробы, стужа январская, трескучая, даже туман стоит, дыхание перехватывает. А цветы все-таки распускаются. Они цветут среди снега.
Их покупают для свадеб, для встреч, для праздников. Девушка срезает цветы, кутает их в бумагу, в платки и шали. Букеты уносят в дымный мороз, как уносят закутанных детей.
Покой, налаженность жизни ощущаются в этой чеховской части Таганрога… Машин мало, суеты нет.
Особенно умиляют таганрогские трамваи. Они какие-то домашние, тихие, полупустые, а то и просто пустые.
Бегут неторопливо среди зарослей улиц. Иногда бегут гуськом, сразу пять-шесть штук, будто скучно им поодиночке. Бежит-бежит трамвай, к вдруг — стоп! Остановился. Выскакивает водитель с ломиком и переводит стрелки. И снова покатил.
По нескольку штук собираются трамваи в зеленом, тихом переулке у диспетчерской. Здесь контора, оранжевый автомат с газводой, скамейка — водители забегают в контору, потом пьют воду и опять уезжают.
А как уютно сияют трамвайные окна во тьме среди деревьев! Ночь. Сижу в трамвае один. В двух вагонах только я один. Здесь кондукторов нет, стоят билетные автоматы. За окнами — заросший город, таинственный, темный. Двери, как в сказке, сами открываются и закрываются, гремя, но никто не выходит и не входит. А может быть, это входят и выходят невидимки?