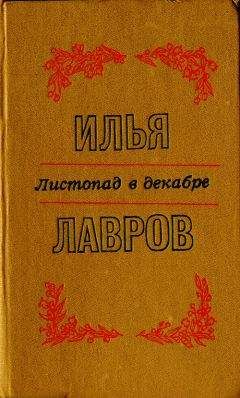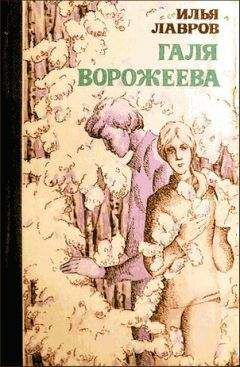Я вижу, как в сонные, предрассветные часы вдруг поднялись они на крыло, заклубились в небесах — и пошли через моря и океаны тысячи стай уток-утушек, лебедей-лебедушек, черноклювых гусей-гуменников. Потекли стаи к родным глухим озерам в камышах и рогозе, к сверкающим плесам, к синим речкам, к мокрым лугам, к таежным чащам и болотам с лягушками и клюквой.
Далеко слышно, как скрипят маховые перья. Валом валят птичьи племена в Сибирь, в тундру, к Байкалу, на Таймыр… Белоснежные и величественные, плывут лебеди-кликуны, как небесные каравеллы. Плывут лебеди-кликуны и, раскрывая оранжевые клювы, радостно трубят, приветствуя родимые плесы и старицы.
А в теплых заморских странах остались иные птицы. Они поют, стрекочут, заливаются, разноцветные и восхитительные, как цветы…
Сто миллиардов! Выходит, что Земля — планета не людей, а птиц? Выходит, что Земля — это огромное птичье гнездо?
Однажды я видел начало всего этого.
В моей голубятне сидела белая голубка на белых яйцах. Грела их своим пухом, мягкими перьями.
И вот улетела голубка поклевать зерно. А в гнезде осталось два яйца.
Светало. На земле разгоралась весна. Белыми черемуховыми клубами плыл май над зеленью долин и лесов. Малюсенькие колпачки-светильники ландышей бело светились в синеватой тени кустов. Май обдавал землю теплом, светом, украшал зеленью и цветами. Он звенел, щелкал, пел и заливался. Ведь у мая — птичий голос… После шелестящих дождей прямо на глазах густели травы, густела листва.
О свежесть и молодость года!
Двинулись соки жизни, и началось ее ликование. Кругом на земле все любило и рождалось, росло и зацветало…
Я смотрел на голубиные яйца, и вдруг — что такое? — шевельнулось одно, еще раз шевельнулось, закачалось, закачалось — розоватое, хрупкое.
Кто же его толкает?
А яичко уже легонько кренилось, вздрагивало, будто слегка пританцовывало.
Поняв все, я затаил дыхание.
А тут уже и другое яйцо дрогнуло, двинулось с места. Завороженный, смотрел я на этот танец голубиных яичек.
Люди! Началось чудо. Началась жизнь!
Невидимые клювики долбили скорлупу, выбирались из своей темницы на волю, к маю, к теплым дождям, к солнечным бубенцам купальниц…
С утра до вечера перекатывались в гнезде яички. С утра до вечера упорно, неустанно пробивались к жизни птенцы. А голубка сидела рядом и следила за этой борьбой. И вот на первом яйце появился бугорок, потом его исчертили трещинки, и наконец отлетел, упал первый кусочек скорлупки. Мать встрепенулась и начала осторожно расширять окошечко-выход. Она клювом отщипывала маленькие кусочки скорлупки…
А через месяц два изящных, белых голубка взлетели над домом. Они были худенькие, невесомые, с большими и сильными крыльями. Они ложились на упругие воздушные потоки, и те уносили их к облакам.
А на земле уже отцветала рябина и стояло долгое «рябиновое тепло».
И медом пахло, медом…
Помню мать в ее последний год жизни. Ей уже исполнилось восемьдесят два. И она даже по комнатам передвигалась с трудом. Я тогда жил в ее стареньком доме среди калины, боярки и тополей.
Однажды сидел во дворе на опрокинутом бочонке и курил. Вдруг дверь открылась, и из сенок осторожно, медленно перешагнула через порожек мама. На худых плечах ее шаль, в руках посошок. На лице поблескивали очки с очень толстыми стеклами в проволочной оправе. И вот вспоминается мне сейчас…
Весь двор пестреет георгинами, левкоями, астрами. Мать, стоя на крыльце, медленно обводит их глазами, видит меня, но, ничего не сказав, устремляет взгляд через низенький забор вдаль.
На земле пылает ослепительный июль. За домом соседей вздымаются три огромных пышных тополя, словно толстенные мачты невидимого корабля. Их лохмато-зеленые паруса загребают ветер, трепещут, устремляются вперед. А над ними в небе плывут другие корабли, распахнув белые пухлые паруса. Казалось, они вобрали в себя весь свет всего июля.
Мама долго смотрит на эти корабли и вдруг, перекрестившись, с невыразимой тоской произносит:
— Господи, господи! Взяла бы я сейчас котомочку с хлебцем да и пошла бы, и пошла бы все прямо и прямо! — И она слабо махнула рукой туда, куда уплывали корабли июля. — И так бы и ушла на веки вечные, и не вернулась сюда!
Что это с ней? Или привиделись ей теплые хлебные поля, земляничные рощи и прозрачные речки ее юности? И душа ее прощально рванулась к ним? Или это была смертная тоска, горькое томление перед близким концом и жажда уйти от него?
Но вот что удивительно! Это, мамино, живет и во мне. С самого детства живет.
…Выхожу из дома. Зимний вечер. В воздухе клубится снег — вьюга, света белого не видно. Над улицей со столбов склоняются, светят вниз фонари-светильники. Они бросают полосы голубоватого света. В свете клубится снег, и чудится, что каждый светильник извергает свою маленькую вьюгу. Шатаются голые, черные тополя. Заснеженные фигурки людей возникают из вьюжной сумятицы и снова тонут в ней.
И неожиданно мне начинает казаться, что я сейчас не выдержу, упаду и закричу от отчаяния, от тоски, от безнадежного порыва куда-то вдаль. И так бы и пошел, и пошел бы. И никогда бы сюда не вернулся. Куда пошел бы? Где еще никогда не был? Зачем пошел бы? В молодости — за счастьем, а теперь — за молодостью? Или это жажда увидеть, охватить душой всю мою благословенную родину? Или этот крик в душе зародился от тревожной вьюги?
Но вот я вспоминаю иное время. Утро. Сильный ветер и дождь. Из водосточных труб льется, словно из незакрытых кранов. Люди бегут, подняв воротники. Прямо не весна, а осень. Но нет, нет — это ненастье весеннее. В ветре, в дожде, в холоде деревья мечутся радостно: у них уже лопнули почки, уже высунулись желтоватые, клейкие клювики сложенных листочков. И от этих малышей холод пахнет смолкой. И этот холод сейчас нужен им, он помогает лопаться почкам, сбрасывать на землю липкие корочки. И они валяются на мокрой земле. Я счастлив от этой студеной весенней сумятицы.
Но, несмотря на это счастье, меня охватывает мое, постоянное. Закурил бы сейчас да и пошел бы, пошел, и пошел. Зачем же уходить от счастья? Или это весна будоражит во мне извечного бродягу?
…Но вот оно — предзимье! Какое студеное и красивое слово… Едва рассвело. За окном несет колючий снег. Земля между деревьями, там, где бурая трава, побелела. Только асфальтовые тротуары да тропки чернеют, Я выхожу на балкон. Холодно, неуютно; кусты, деревья — все в смятении. Предзимье… Одеться бы сейчас потеплее, и пойти, и пойти, и пойти бы по хмурым улицам, скверам в самую даль и глушь этого предзимья. И чтобы не умолкая хрустела под ногами стылая, засохшая трава…
Не так ли в молодости бегут к своей возлюбленной, к своей единственной?
Не от такой ли тоски, отчаяния, любви, непреодолимого порыва осенними лунными ночами трубят и ревут в таежных горах изюбры? И они идут, влекомые страстью, и потом далеко-далеко разносятся стук, треск и клацанье рогов. Это скрещиваются в битве костяные мечи…
Изюбры идут, а я все не могу уйти в свои дальние горы. А так бы и пошел, и пошел, и пошел…
Я в последнее время живу в ожидании беды. Сердце мое ворожит ненастье. Сердце сжимается, точно котенок на печи, суля морозы.
Много есть верных примет. Синие облака — к теплу, багровые зори — к ветрам, перелетная птица течет стаями — к дружной весне, соловей начинает петь, когда может напиться росы с березового листа.
Все это добрые приметы. Все это ликующие приметы праздника жизни.
А какие же приметы к бедам?
Не страшит меня то, что глупость затеяла, что тупость задумала, что зависть затаила. Я просто отмахнусь от них… Я говорю о другой беде. Когда речь оборвется на полуслове, и звук не проникнет в уши, и от света не сожмется зрачок — вот об этой беде я говорю.
Перед землетрясением всплывают невиданные огромные глубинные рыбы; в подвалах и колодцах слышится смутный, таинственный гул, голос неведомых недр; бьют копытами, ржут и рвутся с привязи кони; в зоопарках мечутся в неясном тревожном томлении и глухо воют дикие собаки динго, трубят слоны, голосят гиены, ревут тигры и львы…
Я прислушиваюсь к своей жизни — не возник ли в ней этот смутный, едва уловимый гул? Кажется, тихо. Тихо, тихо. И в тишине вьется пронзительный лучик счастья, приветствующий жизнь.
Безумец! Ведь тебе уже столько лет! И ты знаешь, как хрупок человек телом. Но он велик духом. Он может в душе заплакать при виде жаркой поляны в жарках, при виде чистейших детских очей, при виде лица молодой женщины.
У тебя сегодня какое-то особенное утро, словно перед счастьем, а не перед бедой.
…Люди знающие говорят, что на далеком острове Ява есть растение по имени королевская примула. Она растет только на склонах вулканов. И она расцветает только накануне извержения вулкана. И она еще ни разу не ошиблась. Жители деревень знают об этом. И лишь только зацветет ярко и нежно странный цветок, люди покидают свои дома и устремляются в далекие долины.