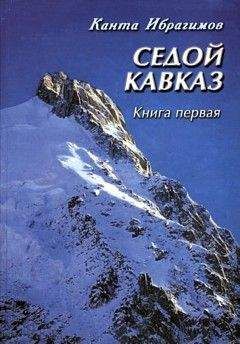Только теперь Алексей обратил внимание на духоту разгоревшегося жаркого дня, только теперь почувствовал, что вспотел. Поднял было руки, чтобы смахнуть пот с лица, да вовремя спохватился: грим попортишь… Дотопал до нужного домика и, войдя во двор, увидел телегу со снастями и в ней прикрытое травой корыто с рыбой. Ведра два будет.
Во дворе никого. Заскочив в пустой хлев, скинул зипун, парик стащил и внутренней его стороной начал стирать краску. Потом протер лицо носовым платком, и все это — парик, бороду и усы — туго скрутил и завязал в него.
Хозяин, услышав стук калитки, но не дождавшись вошедшего, выглянул во двор. Туда-сюда оглянулся — никого. К тому времени управившись со своими делами, Алексей показался из хлева:
— Я это, я, Григорич, явился.
— Э-э, да ты, брат, никак, тоже порыбачил! Али в речке искупался, мокрехонек-то весь?
— Порыбачил, Григорич. Дай умыться.
— Дак пошли в избу, никого там нету. Разогнал я всех своих. Степка-то на работу на склад ушел. Не спамши парень сегодня.
— С ним на рыбалку-то ездили?
— С им.
Алексей вернулся в хлев, вынес оттуда зипун и бросил под траву на телегу. А сверток занес в избу, попросил хозяина:
— Спали сейчас же в печке.
— Ну дак рыбка-то изловилась али как? — осторожно поинтересовался Григорич, глядя на огонек в очаге и вороша свою редкую темную бороденку, словно проверял, уж не она ли горит неброским пламенем.
— Изловилась, — плеская на голую грудь прохладную воду, ответил Алексей. — А вас на рыбалке видел кто?
— Да как сказать? По дороге реденько попадались встречные, дак Степка-то спал вниз лицом. А пинжак его на твой похожий… Да чисто все сделано. Не тужи ты про это.
— Молодцы, — натягивая рубаху, похвалил Алексей.
— Ты тоже молодец. В сорочке небось родился.
— А что? — встревожился Алексей.
— Я ведь в избу-то минут за десять до тебя зашел, а то все во дворе да на улице крутился. Дак вот, с четверть часа назад разъезд казачий тут проехал. Приглядел я малость за ими — вроде бы на Челябинский тракт наладились… А ну как они бы тебя встрели!
— Да уж все к одному, — усмехнулся Алексей. После умывания вернулась к нему бодрость. — В саду мы чуть с самим прокурором не поздоровались. А мой товарищ тоже знаком с ним.
— Да ну!
— Авось и тут обошлось бы… Давай, Григорич, запрягай.
— Отдохнул бы часок.
— Чем раньше с рыбалки вернусь, тем надежнее. Да и уху готовить надо, гостей встречать.
— Верное слово ты говоришь, — вздохнул Григорич и пошел запрягать коня.
16
Пуганая ворона, сказывают, и куста боится. Верно. С Катюхой-то же самое вышло. Привезенная Гришкой Шлыковым в незнакомую обитель эту, сидела она в избушке на курьих ножках затворницей, никого не видела, ничего не слышала более суток. Казалось ей, что непременно казаки наедут и станут обыскивать весь город. Вот-вот постучатся в ворота.
Первый разговор с бабкой получился у них короче воробьиного носа. Спросила хозяйка, как звать молодушку, сколько годов ей да сколько платить станет — вот и все. А Катюха даже имени не узнала у хозяйки. Так и величала баушкой. Чем жила эта старуха, на какие доходы — неведомо. А в хозяйстве, кроме козы с двумя козлятами да маленького огорода, ничего не числилось. Правда, три сына у нее тут же, в городе где-то жили. Они, наверно, помогали.
Первый-то день больше половины проспала Катька после столь мучительной ночи в побеге. Измокла вся, истряслась от страха, даже захворала вроде бы. Лечила ее хозяйка, чаем с малиновым вареньем угощала, травки какой-то в заварку бросила.
Неприветливой старуха показалась. Лицо у нее длинное, нос большой, репчатый, морщины по лицу крупные, как у мужика. И волосы крупные, сивые-сивые из-под линялого платка выглядывают. Руки у нее тоже большие, мужичьи. Говорила она мало, больше молчком обходилась. А все же, присмотревшись, нельзя было не приметить в ней неброской внутренней доброты.
Проснувшись нынче поутру, увидела Катюха, что бабка уже сходила куда-то и воротилась с полной корзиной снеди. Потом затопила печь да блины затеяла. С расспросами к постоялке своей не лезла: видно, Гришка обсказал ей главное, когда на постой-то спрашиваться заходил.
После обеда на улицу потянуло Катюху. В сторону монастыря бы пройтись, тюрьму свою добровольную оглядеть да еще на рядок все передумать, взвесить. Страх прошел к тому времени. Осмелела она и не раз уж подумала о том, что лучше бы все-таки где-нибудь работницей пристроиться, чем в монашки сразу идти.
А как вышла за ворота да как хватила вольного воздуха полной грудью — и вовсе расхотелось ей на монастырь глядеть. Тут и присела на шаткой лавочке. Нежарко в тени, поблизости никого нет. И потекли думы одна за другой — вязкие, тягучие, как патока, да несладкие. Надо же определиться как-то. А тут вот, сидя на лавочке, ничего не высидишь. И все-таки покойно ей было, уютно, и жить все больше хотелось.
Ненароком глянула в улицу и обомлела: казаки едут! Вскочила с лавки, к калитке бросилась, да с непривычки отворить-то скоро не может. Засуетилась.
— Чего ты напужалась? Эй, девка! — послышалось сзади.
— Проверить избу! — тут же команда последовала. А Катька, не чувствуя ног, проскочила сени и, отворив избяную дверь, взмолилась:
— Спаси меня, баушка! Спрячь где-нибудь!
— Да куды ж я тебя спрячу, родимая? Аль гонится кто за тобой? В сенях частая дробь от шагов рассыпалась, и через порог, скрючившись в низкой двери, два казака влезли.
— И где мужики? — спросил один.
— Какие еще мужики? — сердито зыркнула кошачьими глазами на казака хозяйка. — У нас тута годов с пятнадцать, почитай, и ноги мужичьей не бывало.
— Да чего ты с ей балясы точишь! — обозлился второй казак. — Лезь в подпол! На крышке стоишь.
Ухватив за кольцо, казак откинул западню и нырнул в неглубокий и тесный подпол. Чиркнул там спичкой, плюнул сердито. Вылез. Потом обшарили всю избенку, на чердак заглянули. Во дворе, в хлеву, в погребе другие казаки все осмотрели. Да на улице еще трое их торчало.
— Дак чего ж напужалась-то она нас? — пристально глядя на бледную Катьку, сидевшую на кровати, спросил казак.
— Да не в себе она, — охотливо заговорила старуха. — Головой хворая молодушка… Аль не видишь? Мужика схоронила на той неделе да ума и лишилась от горя.
Казак диковато покосился на Катьку и пошел прочь. Старуха за ним потянулась и за ворота выпроводила незваных гостей.
— Перестала бы дрожать-то как лист осиновый, — вернувшись, повелела бабка, недовольная этакой трусостью постоялки. — Не нужна ты им сроду. Знать, покрупнейши птицу промышляют. Сама ты их во двор и завела своей пужливостью. На Златоустовский тракт вроде бы сноровляются… Иди, иди прогуляйся по вольному воздуху, поколь не завяла в духоте этой.
Продолжая нервно вздрагивать, Катюха поднялась и, старчески сутулясь, двинулась на выход. Обидными показались ей бабкины слова. Легко сказать: не дрожи. Самой-то ей прятаться не надо — не ищут ее. За воротами вслух сказала:
— Никто, знать, горя не вкусит, пока своя вошь не укусит.
Пословицу эту мать нередко повторяла. Иные бабы считали ее счастливой с Прошечкой, а она стоном от него стонала. И не только за себя, и за Катьку — тоже. Теперь уж, наверно, слух дошел и до хутора, что потерялась у Палкиных молодуха. Вот заботы-то матери прибыло! Весточку подать ей никак нельзя. Да и делать этого, понятно, не следует.
Оглянулась Катюха туда-сюда и в сторону монастыря направилась. За город хотелось ей выйти, на поля вольные поглядеть. А страшно: враз да станичник знакомый либо свой хуторской кто навернется!
Пошла по узенькой тропке, что протоптана вдоль заборов вместо тротуара. На пологий подъем легко шагала, не замечала даже, что в гору тропка тянет ее. Все на дорогу оглядывалась.
А как поднялась к монастырю, тут уж и про дорогу забыла. Вперилась в беленую каменную стену, словно желая пронизать ее взглядом и разглядеть весь монастырь. Не устройство и порядок за глухой этой стеной занимали Катюхины мысли, а заглянуть бы в души спрятанных за ней обездоленных монашек! Поговорить бы.
Понимала она, что для этого надо переступить порог дверей монастырских. И для входа широко они раствориться могут, как и в тюрьме, а уж для обратной дороги щелку придется искать, хотя бы самую узенькую.
По пригороду между землянок шагала, не замечая их. Удивилась, когда обнаружила, что она одна-одинешенька в поле. Огляделась кругом, будто из омута темного вынырнула. Путника впереди на дороге заметила и, чтобы ни с кем не встречаться, свернула полевой тропинкой в сторону Уя, пошла, куда вынесут ноги.
Не видела Катюха, когда на прогретом голубом небе появились первые облака — редкие и прозрачные. А птичьи голоса сливались в ее душе в единую мирную песню, и казалось, будто сама она поет жаворонком вольным.