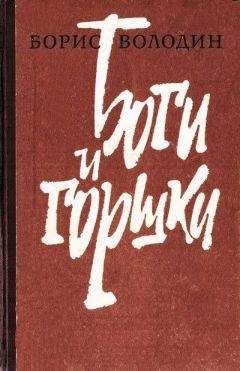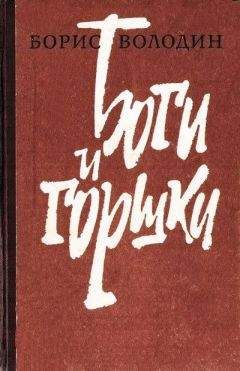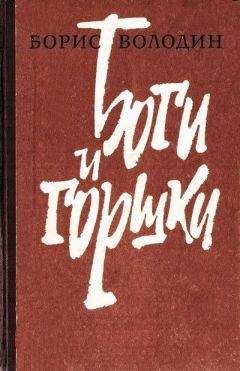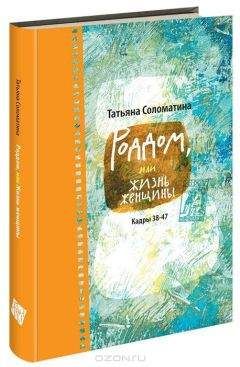И из-за всего этого вторых врачей в роддоме хватало, а первых не хватало. Варяги-то и были нужны, чтоб дежурить первыми, а они совсем не все чувствовали себя здесь как дома. Одним не нравились здешние нововведения, иногда самые малые. У них были и гонор, и опыт, и недоверчивость. Другие только смотрели, сколько еще осталось до конца смены, — отзвонить бы поскорее и с колокольни долой. И в узкой длинной книжке с алфавитом Зубова в итоге повычеркала многие телефоны, а по некоторым, хоть их и не вычеркнула, звонила редко. А раз звонила редко, то уж и без толку: если кто хочет совместительствовать, так не от случая к случаю, а более или менее постоянно. На своей бумажке Зубова записала два телефона — Никитиной и Гуревича, — они здесь были вроде бы как свои. Главный не раз заговаривал, чтобы они сюда перешли совсем, но они не переходили. Никитиной от дома сюда далековато: одно дело — раз-два в месяц, а другое — каждый день за семь верст киселя хлебать. И Гуревич не согласился — просто не хотел уходить со старого места. Еще один — третий — телефон Зубовой и записывать было не надо. Он с довоенных времен сидел в памяти. Он, как ни странно, не поменялся, хоть в войну его снимали, — тогда в Москве почти все личные телефоны поснимали, а после войны ставили опять. И этот поставили опять, и тот же самый номер дали. Верочкин телефон. Веры-лапушки, Веры-сластены, Веры Леонтьевны Квасницкой.
Раньше Зубова именно ей и позвонила бы сразу, еще не выписывая ни телефона Никитиной, ни телефона Гуревича, и наверняка все решилось бы в минуту. Верочка только в одном случае отказалась бы — если бы она именно в тот день дежурила у себя. А если бы получалось, что она два дня подряд будет дежурить, она бы не отказалась. После того как она с мужем разошлась, эти дежурства ей были нужны очень-преочень. Правда, приходя сюда, она каждый раз говорила, что пришла только ради Тусеньки — среди своих Дору Матвеевну Тусей звали, — мол, кто-кто, а она, Верочка, на все пойдет, если надо Тусю выручить. Она так говорила всегда, а если по делу судить, не будь Зубова ее подругой да не пекись так о Верочкиных делах, то все-таки предпочла бы, наверное, ей Никитину или Гуревича. Верочка, конечно, была аттестована и у себя дежурила первой, но первый-то первому рознь, вот в чем было дело.
…Тормоша в кармане бумажку с крупными цифрами, Зубова спустилась в смотровую и согнала с телефона тамошнюю санитарку. Если Главный сказал, что придет через четверть часа, значит, придет именно через пятнадцать минут, а не через десять или двенадцать. Она успеет Никитиной и Гуревичу позвонить и даже зайдет до прихода Главного в специальную темную палату в дальнем конце родблока, где лежит та женщина с преэклампсией. Неудобно будет, если она придет туда позднее Главного.
Со звонками она очень быстро управилась — пять минут ушло на оба разговора, не больше. Только ничего хорошего: Никитина оказалась больна, а Гуревич не мог завтра дежурить из-за каких-то домашних дел. Оставалось звонить Верочке, но ей звонить Дора Матвеевна сейчас не могла: так получилось, что, прежде чем ее теперь приглашать, надо сначала специально договариваться с Главным, тем более что из-за Людмилиных дел завтра дежурил Савичев, а именно с Савичевым у Верочки в прошлом месяце произошел на дежурстве конфликт. И Савичев сказал после этого, что, если его еще раз поставят дежурить с Квасницкой, он тотчас подаст заявление об уходе. А Главный сказал Доре Матвеевне, чтобы она — без всяких дополнительных объяснений — с этим требованием Савичева считалась.
Пока Зубова шла от телефона в родблок на второй этаж, она просто даже закипела: вот всегда так получается, если хочешь кому-то удружить, потом сама первая оказываешься в дураках — так сейчас с этой перестановкой Людмилиной, так и раньше с Верочкиными дежурствами… На Верочкины пассажи, что это она своей Тусе одолжение делает, Зубова внимания не обращала. Есть такая дружба — знаешь человеку цену, знаешь, когда он тебе врет, а все равно с ним дружишь, потому что жизнь вместе прожита и человек этот просто уже часть тебя самой. И что Верочка могла сдуру и нахамить Савичеву, Дора Матвеевна понимала самым отличным образом, но вот только одного она не могла понять: почему Савичев так уж категорически завелся, а Главный так категорически его поддержал? Ведь Верочка, хоть в ней и восемьдесят восемь килограммов теперь, и она теперь немного распустеха, как-никак она все-таки женщина, и несчастная, — это все знали. И кроме того, она в смене была первой, должны же были у Савичева проявиться и галантность какая-то, и сострадание, и просто субординация. И уж для Главного субординация должна что-то значить: совсем не обязательно было Савичеву потакать.
Все это для Доры Матвеевны было особенно огорчительно еще и потому, что Главного и Савичева она считала настоящими мужчинами, а это качество она почитала теперь редкостью. Про мужа своего, например, она просто говорила, что он — баба. Муж все боялся болезней — у него как началась небольшая гипертония, так он с перепугу третий год жил, будто его на поруки отпустили, будто не так шагнет — каюк. Заставлял Дору Матвеевну дважды в день обязательно ему давление мерить и с диеты не слезал все три года.
Зубова вообще говорила, что в двадцатом веке все мужики стали бабами, а бабам приходится быть мужиками. А Главный и Савичев ей казались настоящими мужчинами, и хотя первый был моложе ее на четыре года, а второй — на все десять, она при них всегда старалась быть в полном порядке — без всяких особенных мыслей, конечно. А если особенные мысли приходили к ней иногда, то все равно это были только мысли, дела никакого по всей ситуации быть не могло…
Эта история с Верочкой была совершенно дурацкая: Зубова всегда старалась ставить к ней в пару на дежурства именно Савичева или Людмилу — самых активных и почти уже дозревших до самостоятельности врачей. И еще всегда намекала им осторожно: мол, если не будет особых хлопот и происшествий, дал бы он (или она) по доброте душевной выспаться ответственному дежурному, потому что доктор Квасницкая очень замотана.
Вера-лапушка приносила с собою пару коробок мармелада и за дежурство меж работой и дремотой постепенно его приканчивала. Ее любовь к сладкому была анекдотом еще в институте. В войну, весной сорок четвертого, когда они сдавали патологическую и топографическую анатомии, тоненькая тогда, как тростинка, Верочка заявила родителям, что ей нипочем этих экзаменов не сдать, если родители не снабдят ее мозги вдосталь сахаром, который по науке просто жизненно необходим нервным клеткам.
Верин отец, горбатый бухгалтер, отнес на барахолку только полученную в премию по ордеру драгоценность — кирзовые сапоги, и — то ли обменял их там сразу, то ли продал, а купил уж потом — принес он, в общем, Вере-лапушке добрых шесть месячных рабочих пайков: два кило сахара и два кило какавеллы — липучей, тяжелой сласти из сои с патокой. Какавеллу тогда выдавали по карточкам за сахар в двойном размере.
Готовились к экзаменам еще со школы всегда вместе, и Веру, как всегда еще со школы, все время клонило в сон. И Зубова, как обычно, все время ее тормошила, заставляла голову мочить под краном и сахар сосать для блага нервных клеток. Самой Зубовой тоже очень хотелось сладенького, но, хотя Вера ей и предлагала, и в доме она была как вторая дочка, лопать тот сахар с Верой на равных было совестно, и она брала за день разве кусочек-другой, да и те разламывала на четвертинки, чтобы растянуть удовольствие.
Патологическую анатомию Вера все-таки на тройку вытянула, а топографическую провалила. Сахар кончился, на топографическую анатомию осталась одна какавелла, к тому же надо было заниматься не только по учебнику, но и на трупе в анатомичке… Заниматься в анатомичке мало кто любит. Но Зубова там готовилась все-таки три дня из пяти, а Верочка пошла с ней туда лишь один раз и сказала, что у нее сейчас такое состояние, что без сладкого она не соображает ничего, а нести туда с собой какавеллу в те дни было не совсем удобно. И когда Вера провалилась, Зубова, приведя захлюпанную лапушку к ее родителям, просто не знала, куда глаза девать, — ей казалось, что это она виновата, и вся сладкая история стала ей прямо поперек горла, но Верин отец вздохнул только: «Ты, Туся, не расстраивайся. Ты же знаешь, Туся, какая она у нас… — Он подумал и сказал: — Какая она у нас слабенькая».
Зубова кивнула, хотя ей сделалось еще стыднее, она ведь знала, такая ли Вера-сластена на самом деле слабенькая, как это считалось в доме. Она ведь не родители: для нее в Вериной жизни никаких секретов не было, как и для Веры в ее жизни. И ведь они вдвоем тогда бегали в госпиталь, где лежали нынешний зубовский муж и Верин Славочка (то, что они медички, очень поспособствовало роману: Славочку как раз после третьего курса призвали в сорок первом военфельдшером). Но у Зубовой хватало воли уходить из госпиталя вовремя или не приходить туда три дня, чтобы не прогореть от любви, а у Верочки не хватало, а когда она уходила все-таки, так ее клонило в сон, и какавеллу в анатомичку брать было совсем неудобно.