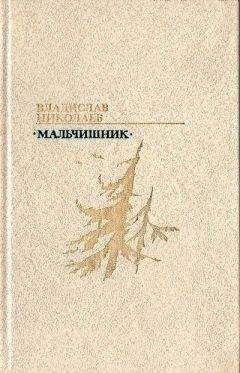— Рассказывают, приедет зимой в Крым или Сочи, сразу же собирает полную аудиторию и выступает без никакой бумажки, на одном вдохновении с трехчасовым докладом о пользе закаливания, красоте спортивной жизни и вечной молодости. На следующий день, глядишь, за ним бегают по горным тронам человек сто, бросаются следом очертя голову в студеное зимнее море и вообще ни на шаг не отстают — куда он, туда и все, что он, то и они. Повсюду у него такие приверженцы — в огонь и воду за ним.
— В позапрошлом году он привел моржей фотографироваться к городской новогодней елке на театральной площади. Вокруг елки — сложенные из снега крепостные стены, башни, многометровые фигуры Деда Мороза и Снегурочки, ледяные горы, с которых толпами скользят вниз на ногах, на коленях, на мягком месте. Катальщики в шубах, дохах, дубленках, в меховых шапках и шарфах. Представляешь, что тут было, когда у елки вдруг появились мужчины и женщины в одних лишь плавках да купальниках. Движение на горках остановилось. Все вылупились на нептунов. Невидаль! Сгрудились они под елкой. Кто сел на снег, кто опустился на колени, кто остался на ногах. И ни один не дрогнул, покуда фотограф не исщелкал на них всю пленку…
А вот и «Снежинка» — традиционный лыжный пробег тагильчан по маршруту Азия — Европа.
В один из мартовских дней, в ясное солнечное воскресенье, утренним часом собираются у подножия Долгой горы на обширной лесной прогалине стар и млад. Приезжают на автобусах, грузовиках, в легковых машинах, подходят с лыжами на плече пешком… Подкатил Максимыч со всей семьей — женой и сыном, которых под грудой разноцветных лыж в машине не сразу разглядишь. Командир привел жену, Многостаночник — сына.
Мелькают иные знакомые лица. С тем учился в одной школе, с другим бок о бок жил в палаточном пионерском лагере, с третьим состязался на беговых дорожках стадионов. Махнув красной варежкой, приветствует меня из толпы Ильда Шамина, подруга и соученица моей сестры. Смуглая, высокая и стройная, она и теперь хороша. Как-то пройдет дистанцию? В свое время ее никто не мог обойти.
Я не единственный гость на празднике. Тряхнуть стариной приехали лыжники из Перми, Челябинска, Кургана и иных недальних городов.
В городе снегу почти не осталось. Асфальт сух и сер от осевшей пыли. И если в затененных уголках кое-где сохранились смерзшиеся остатки, то в это солнечное утро они вовсю тают, исходят ручьями и звонкой капелью.
А в лесу снег лежит нетронутым, искристо-белым, сахарным, и на его фоне особенно ярки и нарядны одежды лыжников: голубые, оранжевые, лиловые, бордовые, сиреневые нейлоновые куртки и парки. Пестрят полевыми цветами вязаные шапочки с кисточками и бомбошками; радугами колышутся и вьются на ветру шарфы.
Уложенные в ряд на белом снегу черные лыжи напоминают мне клавиши, и льющийся из усилителей ноктюрн Шопена будто рождается из звучных уральских снетов.
Прикрепленные к девичьим ботинкам лыжи своими круто загнутыми носками походят на лебедей с их чудными изгибистыми шеями. А лыжи, в снежных вихрях несущие с горы мальчишку, чудятся конями, вытянувшимися в полете в одну линию.
Омывающее душу вселюдное празднество. Хоровод смелых и ликующих кустодиевских красок. Еще пестрей и краше, чем на запечатленной художником стародавней масленице.
А собравшиеся вокруг Ильды Шаминой женщины и сама она — разрумянившиеся, стройные и крепкие, в вязаных собственными руками шапочках-цветах, свитерах-букетах — ярче малявинских девок. В прошлом году Ильда на полпути до финиша в кровь стерла ногу. Но разве могла она, первая лыжница послевоенной поры, из рода-племени спортсменов — отец, мать, дяди, тети, брат — все бегали либо прыгали, — разве могла сойти с лыжни, уступить ее молодой сопернице? Никогда!
И она сняла грудью шелковую ленту, натянутую на финише. И тут же упала на руки мужа — Юры Иванова, геолога и моего одноклассника.
Как и положено на празднике, повсюду лотки под белыми скатертями и лотошницы в белых халатах поверх толстых зимних одежд. Дымятся медные самовары. Из бидонов пахнет кофе. Горы пирожков, бубликов и бутербродов.
Столики с яствами развезены по всей трассе. Лыжники бесплатно там могут выпить стакан чаю или кофе, съесть бутерброд.
И никаких горячительных напитков. Даже шампанское нигде не блеснет осеребренной головкой. Некий оборотистый малый, в дубленке и черной ухоженной бородке, решил воспользоваться этим обстоятельством, привез на «Волге» целый ящик водки. Хочешь — полной бутылкой бери, хочешь — сто граммов нальет, прихватил с собой и мерный стаканчик, цена божеская — ресторанная: червонец бутылка, два рубля — стопарь… Не женщины — мужчины взъярились. Оборотистого шинкаря чуть не вытащили из машины на правеж, да вовремя успел нажать на газ.
Женщины с лыжами погрузились в теплые автобусы, и их повезли в Европу, в Синегорье, расположенное в тридцати пяти километрах от города. Старт у них там, финиш — у подножия Долгой горы.
Мужчины стартуют от Долгой горы, в пути встретятся с женщинами, добегут до Синегорья и поворотят обратно. Дистанция у них в два раза длиннее — семьдесят километров.
Лыжня стелется по старой, демидовских времен, узкой вырубке, по которой подвозили некогда к тагильским домнам выжженный в лесных ямах древесный уголь. Она то взбегает на увалы и горы, то спускается в долины, на елани; громоздятся по сторонам вековые шатровые ели-терема, способные укрыть в непогоду по сотне людей, возносятся до небес медностволые колонны сосен.
До поры струйка воздуха не колыхнется над лыжней, огороженной от ветра двумя лесными заплотами. В солнечном сиянии день парит и нежится.
Но вот на крылатых лыжах пролетел первый, второй, третий, и застоявшийся воздух затрепетал, зашелестел, запосвистывал вихрями.
Прежде на тройках-птицах, в казацких седлах неслась и летела Русь, ныне на лыжах-птицах. Как встарь, мелькают, задевая глаз, версты и деревья, долы и горы, а впереди, в неоглядной дали — новое великое и непостижимое будущее.
В этот час я держу руку на пульсе нации. Слушаю, считаю удары. Бьется ровно, сильно и молодо. Здоровье — молодецкое, богатырское.
7
Я пропадал. За неполных три земных кругооборота семь раз лежал в больнице по полтора-два месяца, выпадавших на зиму и на лето, на весну и на осень, в общей сложности около года.
Казарменного образца палата. Два десятка железных сухоребрых кроватей, расставленных попарно. Между парами узенькие проходы, куда можно протиснуться лишь боком, приставляя одну ногу к другой. В окнах меж двойных рам — облагороженные белилами металлические решетки. От покрытого бурым линолеумом пола шибает в нос хлоркой, с которой три раза в сутки освежают палату.
Это теперь так четко и последовательно я восстанавливаю обстановку. В те же времена были часы, когда черная немочь и страдание мутным колеблющимся туманом застилали сознание, и я ни зги не видел вокруг или видел отрывочно, смутно и отрешенно.
Вот сосед справа, чья койка примкнута к моей, бессвязно размахивает руками, и я беспокоюсь, как бы он не зацепил меня. Вот санитар, опахивая мое лицо полами нечистого халата, елозит лентяйкой по проходу, и в голову ударяет казенный запах хлорки — запах неволи. Вот присела рядом со мной молоденькая сестрица и кормит с ложки манной кашей. По небритому подбородку каша стекает на подвязанное вокруг шеи грубое вафельное полотенце, и я от этого не испытываю никакой душевной неловкости. Только совершенно не хочется есть. Мотаю головой, увожу испачканный рот от ложки, но девушка проявляет поистине материнское терпение и скармливает всю кашу. Напоследок она промахнулась и ткнула ложкой в нос, но тут же исправилась — отвязала полотенце и оборотной, чистой стороной обиходила все мое лицо.
Она же три раза в день, утром, в обед и вечером, приносит таблетки и из промытой ладошки высыпает прямо в мой рот. По целой горсти. Прежде она просила подставить ладонь и шла дальше. Улучив момент, я прятал таблетки под простыню либо в карман больничной пижамы, чтобы при удобном случае вышвырнуть их в форточку или спустить в унитаз. Перед форточкой с поднятой в замахе рукой, сжимавшей горсть таблеток, поймал меня врач, и с тех пор начались строгости.
Другим лекарства, может, и помогают, мне от них только хуже: сковывают, связывают в движениях, ни ногой, ни рукой шевельнуть или, наоборот, настолько взвинчивают двигательную систему, что как угорелый сутками носишься по палате.
Когда страдания оставляют и туман выходит из головы, я всматриваюсь в лица соседей, прислушиваюсь к их редким немногословным разговорам. А с ними что? Какая беда их настигла?
Сосед справа — в неблизком прошлом летчик-реактивщик. Решившись спасти аварийный самолет, он не катапультировался, как было велено командованием, а потянул его к посадочной полосе и не дотянул всего лишь какие-то двести пятьдесят метров. С того времени голова у него скошена набок и сильно вытянута на шее вперед, правая рука в полусогнутом виде поднята вверх и бессвязно размахивает, левая — откинута назад и тоже без устали двигается. Похож он на темпераментного оратора, произносящего с трибуны затянувшуюся на годы страстную речь… Правая рука рубит воздух, убеждает, внушает.