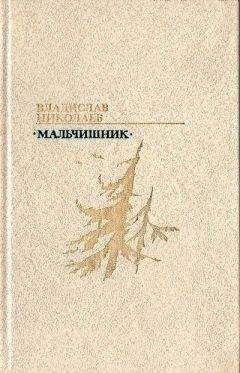Когда страдания оставляют и туман выходит из головы, я всматриваюсь в лица соседей, прислушиваюсь к их редким немногословным разговорам. А с ними что? Какая беда их настигла?
Сосед справа — в неблизком прошлом летчик-реактивщик. Решившись спасти аварийный самолет, он не катапультировался, как было велено командованием, а потянул его к посадочной полосе и не дотянул всего лишь какие-то двести пятьдесят метров. С того времени голова у него скошена набок и сильно вытянута на шее вперед, правая рука в полусогнутом виде поднята вверх и бессвязно размахивает, левая — откинута назад и тоже без устали двигается. Похож он на темпераментного оратора, произносящего с трибуны затянувшуюся на годы страстную речь… Правая рука рубит воздух, убеждает, внушает.
Навещают его жена и дочь. Дочь появляется почти каждый день. И в положенные для свиданий часы, и рано утром, и поздно вечером, когда больница заперта — ей отпирают.
Но весенней поре она в клетчатом полупальто с капюшоном, на который широко стекают густые ореховые волосы. Такие же ореховые глаза смотрят на отца с тревогой и обожанием. На свежих щеках вспыхивают и гаснут треугольные ямочки.
Если бы можно было на минуту остановить летчика, выпрямить шею, успокоить перекошенные губы, то сходство с дочерью стало бы очевидным: такие же ореховые глаза, такие же густые каштановые волосы, прошитые, однако, проседью.
С помощью дочери заправив за резинку пижамных брюк непослушные руки, он сидит на скамейке вполоборота к ней, любуется, восхищается, страдает глазами и ведет ясные речи:
— Немалое для меня утешение, что хоть материально не в обузу вам. Не проедаю всей пенсии, и вам еще остается.
— Я тебе запрещаю вести такие разговоры.
— Вы с мамой не жалейте на себя. Сколько надо, столько и берите с книжки. Ходишь в сберкассу, берешь?
— Нет, не хожу. Ты, пожалуйста, не беспокойся. Мамина зарплата плюс моя стипендия — куда еще больше? Есть еще один источник. Мы с мамой договорились ничего тебе о нем не говорить, чтобы не переживал зря. Но если пообещаешь, что не будешь переживать, скажу.
— Не могу такого обещать, — посуровел отец. — Но ты все равно обязана сказать.
— Вот уже месяц я работаю на полставки на кафедре. Конечно, после лекций.
По лицу отца судорогой пробегает страдание, руки выскакивают из-под резинки, левая откидывается за спину, правая в негодующем размахе взлетает над головой.
— Нет, нет! — мотает он скошенной головой.
Дочь привычно и ласково вправляет руки обратно, обнимает отца за плечи, гладит по волосам и переводит разговор на другое.
— Я натаскала целую гору книг. Есть просто замечательные. Дожидаюсь тебя, чтобы вместе читать. Будешь слушать? Начнем с Монтеня. Знаешь, с чем его едят?.. Нет? Тем интересней будет. Философ, у которого все понятно, все доходит не только до ума, но и до сердца. Дух захватывает от его рассуждений… Последние испытания, схватка с самой смертью, — говорит он, — окончательная проверка, пробный камень всего того, что совершено нами в жизни. Эта схватка — верховный судья всех остальных наших дней. Пускай честно и достойно человек прожил многие годы, но перед лицом смерти сплоховал, смалодушничал, унизился — значит, перечеркнул и опозорил всю свою жизнь.
— Это святая правда, доченька, — грустно подтвердил отец. — Самолично проверил. Но с работы все-таки должна уйти.
— Нет, папа. Дело даже не в деньгах, хотя и они не помешают, а в том, что работаю я по будущей своей специальности. И интересно.
— Не то, не то, — страдает отец глазами. — Когда ты была маленькой, я мечтал не о своем — о твоем будущем, собирался подарить тебе моря, океаны, горы, реки, Северный и Южный полюсы — все, над чем сам летал на своем самолете. Мечтал, когда станешь такая, какая теперь, отправиться вдвоем на Урал или в Саяны, за плечами байдарка, а потом спуститься на ней сквозь пороги и камни по какой-нибудь прекрасной реке…
— Знаешь, папа, — перебила дочь, — у меня есть хорошие друзья, которые каждое лето ходят по горным рекам на байдарках. Если хочешь, я напрошусь к ним.
— Действительно хорошие друзья?
— Очень хорошие.
— Рад буду за тебя.
— Ты у меня самый замечательный из всех пап.
Сосед слева, чья койка отделена от моей узким проходом, — после автомобильной катастрофы. Ничего не помнит. Помнит только оранжевое. Оранжевый КрАЗ — самосвал со стальным козырьком над кабиной — внезапно выкатился по проселку на кромку шоссе. То ли они в него врезались, то ли он их смял. Перед глазами одно оранжевое, оранжевое.
Из четверых, сидевших в машине, не умер он. Остальные трое — самые дорогие для него люди: сынишка, брат, жена — даже не замутили слабым дыханием зеркальца, поднесенного прибывшим доктором к их еще теплым губам.
Врачи и сестры не один раз на дню называют нас по фамилии, а то и по имени-отчеству, но они пролетают мимо сознания, погруженного в собственные страдания, не оседают в памяти. Я и теперь не могу вспомнить, как звали летчика, как звали другого изувеченного. Назову его по последней должности, в которой сокрушила катастрофа, — прорабом.
В течение двух месяцев, не приходя в себя, прораб на волоске висел между бытием и небытием. За это время хирурги разобрали его и вновь собрали: косточка к косточке, осколок к осколку. Склеили в наилучшем виде: даже не хромает. Когда он раздевается для сна, я вижу на руках и ногах многочисленные ниточки разрезов, перетянутые на равном расстоянии узелками швов, и они кажутся совершенно безобидными царапинами.
Кости хирурги срастили, но раненую душу и раскалывающуюся от боли голову не вылечили. Целый день сухопарый, грачиного оперения прораб ходит по коридору, сжимая рукой затылок. Навещать его приезжают из другого города. Два раза выписывали домой, но уже через несколько дней он просился обратно в недужницу-больницу.
Я понимаю его. Дома и комфорта поболе, и воздух чище, и кормят вкуснее, но к физическим мукам там прибавляются еще и душевные: стыдишься своей беспомощности, полной непригодности даже к маломальскому, пустяковому делу, переживаешь, глядя на девочек-дочерей, подавленных твоим недугом, и рвешься обратно в пропахшую невыветриваемой хлоркой, казарменной тесноты и суровости палату. Тут не один ты плачешь невидимыми миру слезами — это утешает и уравнивает с людьми.
Ворочаясь, прораб долго приноравливает измученное тело к тюфяку, стараясь найти положение, в котором боль отпустила бы его, позволила заснуть. Бывает, находит. Но сегодня не получается. Устав от бесплодных усилий, он садится на кровати и в отчаянии обхватывает обеими руками голову.
— Дома в кладовке крюк облюбовал, — ни к кому не обращаясь, произносит он отвыкшим от речей каркающим голосом. — Раскладушка на нем висела. Прочный крюк. Но не смог…
По другую сторону от меня вскакивает летчик. Рискуя рассыпаться на части, бессвязно машет руками, дергает вкось головой, топает босыми ногами.
— Позор! Не сметь! Нести крест! — в негодовании потеряв способность связывать слова, выплескивает их по отдельности.
Говорят: на смерть, что на солнышко, во все глаза не глянешь. Здесь не только смотрят, не моргнув, но и обсуждают ее со всех сторон, словно близкую соседку. Между прорабом и летчиком завязывается спор. Я прислушиваюсь к ним и испытываю такое чувство, будто это не они, а я сам с собой спорю.
Немочь наваливается отовсюду. В особицу ничто не страждет: ни голова, ни грудь, ни нош — страждет все вместе, каждая фибра, каждая клетка, словно придавлен, превращен в червя многотонной могильной плитой, и сохранилась лишь единственная способность — впитывать эту тяжесть и вызываемую ею муку. Накатывает апокалипсический страх. Глаза застилает сыпучим туманом. Остатки сознания устремлены на то, чтобы не потерять достоинства: не закричать, не унизиться как-нибудь по-другому. Остатками сознания ищу я в пыльном тумане мерцающее окно и еще раз взвешиваю свои возможности. Смогу ли одним махом вырвать решетку? Не ошибусь ли окном? Их несколько, но только под средним на улице острыми углами скалится груда камней, которые поспособствуют осуществить замышленное наверняка… Это отчаивается во Мне прораб. Его запальчиво урезонивает летчик. Падет позор не на одну твою голову. Вспомни Монтеня, Сплоховал в схватке со смертью — осрамил всю жизнь. Хоть, и всесильна смерть, но и перед ней не надо шапку ломать. Легко биться с равными, побейся с ней, неравной самодержицей, авось зауважает.
Но где взять силы, чтобы не сдаваться и биться до конца? Они уже истончились в ниточку, на живульке держатся.
Из зги, из тумана наплывают чьи-то слова: забыть себя. Кто-то что-то сказал по этому поводу очень важное. Напрягшись, сначала вытягиваю имя: Лев Толстой, а потом и всю его мысль: в человека вложена бесконечная, не только моральная, но и физическая сила, но вместе с тем на эту силу наложен ужасный тормоз — любовь к себе или, скорее, память о себе, которая производит бессилие…