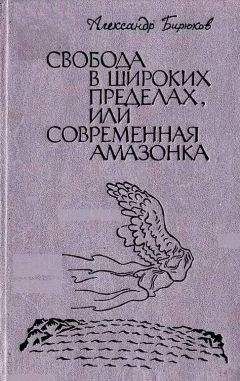К Канторам надлежало звонить пораньше, потому что август, Анна Павловна и Татьяна (с семейством, вероятно, — почему-то Нина думала, что у нее две девочки) наверняка где-нибудь отдыхают, и надлежало захватить Льва Моисеевича, пока он, центростремительный Канталуп, куда-нибудь не уехал, а то и с ним не встретишься и про женскую половину ничего не узнаешь.
Но к телефону на Солянке долго никто не подходил. Потом старческий голос (даже не поймешь, мужчина или женщина) механически, как на магнитофон записанный, произнес:
— Слушаю, пожалуйста, говорите громко, я плохо слышу.
— Попросите, пожалуйста, Льва Моисеевича. Или Татьяну Львовну, если она дома.
— А кто его спрашивает?
Нина назвалась.
— Не кладите, пожалуйста, трубку, я пойду узнаю.
Нина представила, как этот благовоспитанный старичок (или все-таки старушка?) проползет по блестящей анфиладе и заскребется в дверь спальни сиятельного Канталупа (Тани, судя по ответу, нет). А Канталуп еще, может, не проснулся и не захочет с ней разговаривать. «А, — скажет, — была такая неблагодарная воровка. Что-то такое у меня украла — я уже не помню что. Гоните ее!» И вежливенькая белая мышка скажет, что Лев Моисеевич уже уехал.
«Ничего, — подумала Нина, — я тогда вечером прямо к ним домой поеду. Должна же я узнать, как они живут. А больше мне ничего не надо».
В вестибюле гостиницы, откуда Нина звонила, уборщицы перекликались как в лесу, звенели ведра, хлопала входная дверь. В таком гомоне можно было не расслышать, что тебе скажет тихий старичок.
— Слушаю, — наконец ответил какой-то мужской голос.
— Я просила Льва Моисеевича.
— Я вас слушаю. Кто говорит?
— Это я, — сказала Нина, — Дергачева. А вы меня тоже не узнали?
— А, — сказал Канталуп все еще не своим голосом, — а я думал, что кто-нибудь шутит.
— Почему?
— Не знаю. Позвонит кто-нибудь, скажет: «Запасайтесь водой. Воды пять дней не будет». Мы нальем куда только можно, а потом оказывается, что не нужно было.
— Ну, вы тоже, наверное, шутите, — сказала Нина, все еще не веря, что говорит с настоящим Канталупом, — до того не похож, жалок был голос ее собеседника.
— Нет, — сказал Канталуп, — не над кем. А то еще, знаете, позвонили с утра и сказали: «Никуда не выходите из дома…»
— Это мальчишки, наверное.
— Да нет, вполне взрослый голос.
— А Таня как?
— Таня? Вы про дочь мою спрашиваете? — «Господи, ну про кого же еще?» — Она ушла.
— Уже на работу ушла?
— Да, совсем.
— А когда она вернется?
— Вы это у Бориса спросите.
«Бред какой-то, — думала Нина, — никакого Бориса не было и нет. Он же мне сам об этом говорил. Его Таня с Анной Павловной от нечего делать выдумали».
— Можно я к вам приеду сегодня?
— Да, приезжайте, я вам все расскажу.
— А когда лучше?
— Когда хотите. Я весь день дома буду.
— Что — сегодня тоже звонили?
— Нет, вчера еще.
— Я часа через два буду у вас, ладно? Анне Павловне большой привет.
— Ее нет, она тоже уехала.
— Они с Таней вместе отдыхают?
— Да, наверное. Но точно я сказать не могу. Так мне что — дома быть, да?
— Я сейчас, Лев Моисеевич. Я очень скоро приеду.
От Выставки до Солянки, к которой по-прежнему вплотную ни на чем не подъедешь, добираться долго. Нужно было и привезти хоть что-то — это и раньше дозволялось, во времена салонов, а очереди теперь, в Москве в продовольственных стали безобразные — жителей, что ли, прибавилось, или производство колбасы сократилось? Поэтому на Солянку Нина попала уже перед обедом, в тягучую бензиновую жару, когда, задыхаясь и кашляя, невольно вспоминаешь о холодном тумане, который накатывается на голую вершину сопки, где ты стоишь над панорамой бухты и знаешь, что там, внизу, у самого моря, тебя уже ждут нагретые камни и соленый, с йодом, запах. Как же они живут тут, бедняги?
Таблички у подъезда, сообщавшей, что доктор Кантор Л. М. принимает здесь больных, уже не было, одна деревяшка, на которой она крепилась, осталась. Что же у них все-таки произошло?
За дверью квартиры, той самой, слышались громкие резкие голоса и такой же громкий металлический смех. «Кажется, я не вовремя», — подумала Нина. А с другой стороны, могла ли она вообще прийти сюда вовремя? Что ей тут? Может ведь она и без свидания с Татой обойтись. Да и Льву Моисеевичу показываться на глаза не очень ловко. Хорошо еще, что Анна Павловна куда-то уехала, — ее Нина всегда боялась. Но и без Анны Павловны, хотя та и не снизойдет до восклицаний, а только минует ее как неодушевленный предмет, найдется кто-нибудь, чтобы сказать: «А вам здесь, девушка, что нужно?» И что она ответит?
Но отступать было поздно — тем более с этим тортом и банкой югославской ветчины (а она тяжеленная, зараза, — три кэгэ, магаданский размах, но таскать тяжело), и Нина позвонила. Крики за дверью смолкли, тишина, потом быстрые топотки и шорохи, словно сквозняк и ветер сдувает со стола листы бумаги или стая крыс разбегается, спасаясь от опасности (что-то такое есть у Гофмана в «Щелкунчике»).
Потом под дверью тихий голос спросил:
— Кто там?
Нина назвалась.
— А по какому вопросу? — спросил тот же голос.
— Я к Льву Моисеевичу. Он разрешил мне приехать.
— Подождите, пожалуйста, — и снова по просторной передней и дальше (расположение комнат Нина помнила) понеслись, побежали эти топотки.
Да что же у них происходит? Заговорщики, что ли, какие-то поселились?
— А вы, простите, одна? — спросил кто-то другой из-за двери, не все, значит, минутой раньше разбежались.
Дверь приоткрылась, но только на самую малость, сколько позволила цепочка, и в щель просунулась седая узкая голова. Быстрые, в белых ресницах глаза обшарили Нину, и дверь захлопнулась.
— Она одна, — послышалось из квартиры, — одна и с какими-то вещами.
— Вещами?
— Коробок и свертка.
— Сверток и коробка?
— Да, простите.
— Какая коробка?
— Коробка с тортом.
— Вечно вы ждете от жизни сладкого, тогда как на самом деле…
— Но еще есть сверток. По его поводу вы, может быть, уже не будете сердиться.
— Лев Моисеевич! — крикнула Нина, наклонившись к щели, в которую раньше опускали, видимо, почту.
И снова в квартире все затихло, словно и не было этих топотков и восклицаний только что. Ну чем вам не Булгаков, черт побери! Прямо «Мастер и Маргарита», только там все блистательно придумано, а тут неумные и неумелые черти разыгрывают комедию, а в итоге она только теряет время (в последний, кстати, день) и ломает голову над тем, что же случилось в этой роскошной квартире, где все было, от незапамятных времен, выше пустой повседневности.
Потом издали послышались шаркающие шаги и рядом с ними — все те же быстренькие топотки.
— Смотрите внимательно, — напутствовал кто-то, — сказали ведь, что будут вывозить. Зря не позвонят. Вдруг за ней кто-то еще стоит? Откуда мы знаем, кто ее послал?
— Кто здесь? — спросил голос из-за двери, и Нина поняла, что эти крысомыши привели наконец самого Льва Моисеевича.
— Нина, Лев Моисеевич. Это я.
— А вы одна? Можете дать честное слово?
— Ну конечно, честное слово.
— Пусть скажет, зачем пришла, — упорствовал наставник. — Вы помните, что звонили?
— Спрошу, спрошу, — говорил Лев Моисеевич, преодолевая там, за дверью, нешуточное, видимо, сопротивление. — Да не мешайте вы мне, наконец! Что вы меня за руки хватаете?
— Так ведь сами знаете. Может, подождем, когда Татьяна Львовна приедет? Тогда бы сразу и открыли!
— А если Татьяна Львовна не придет? Эта так и будет целый день под дверью стоять!
— Пустите! — потребовал Лев Моисеевич.
Дверь наконец отворилась.
В передней было полутемно — свет падал только с лестницы впереди, а также из коридора, ведущего в кухню, но будь тут и прежнее сверкание, трудно было бы узнать в заросшем седой щетиной старике, который стоял сейчас перед ней, заложив руки в карманы теплого замусоленного халата, блистательного Кантора. Какая уж тут блистательность — бедный, неопрятный старик. Вот именно — бедный. Как же это так?
— А, это ты, — сказал Лев Моисеевич и заулыбался. — Хорошо что приехала. У нас тут, понимаешь, очередные страхи и хлопоты. Видишь вот…
Он сделал жест — плавный, величественный даже, представляя ей место действия и лица. В передней, в разных ее концах, замерли, словно притаились, несколько фигур — тех, кого она и раньше еще называла мышами, но были ли это все те же люди или их преемники — не разобрать, конечно.
Одна из этих фигур — кругленький, пониже Кантора мужчина — приблизилась и после любезного поклона взяла у нее коробку и банку. Банка оказалась, видимо, тяжелее, чем он ожидал, — кругленький едва ее не выронил. «Ого!» — одобрительно произнес он и, еще раз поклонившись, устремился в сторону кухни, и тут Нина увидела, как возникают эти, уже слышанные ею топотки, потому что следом за ним, человеком с тортом и банкой, устремились не только все те, что стояли в передней, но и стали выскакивать из комнат, в нее выходивших, такие же блеклые, словно бы даже похожие одна на другую фигуры.