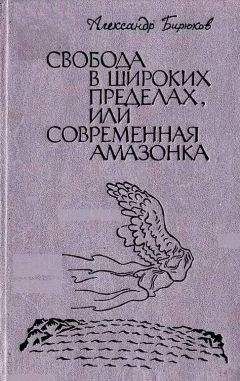Одна из этих фигур — кругленький, пониже Кантора мужчина — приблизилась и после любезного поклона взяла у нее коробку и банку. Банка оказалась, видимо, тяжелее, чем он ожидал, — кругленький едва ее не выронил. «Ого!» — одобрительно произнес он и, еще раз поклонившись, устремился в сторону кухни, и тут Нина увидела, как возникают эти, уже слышанные ею топотки, потому что следом за ним, человеком с тортом и банкой, устремились не только все те, что стояли в передней, но и стали выскакивать из комнат, в нее выходивших, такие же блеклые, словно бы даже похожие одна на другую фигуры.
«Сколько же их тут! — подумала Нина. — Что они тут за крысильник устроили?»
— Вот и прекрасно! — сказал Кантор, наблюдая за тем, как это серое воинство стремительно уносится на кухню. — Теперь им надолго занятий хватит. Проходите-проходите!
Она думала, что Кантор поведет ее в гостиную, где раньше собирался салон, или в свой кабинет, но он привел ее в Танину комнату, приговаривая на ходу: «Ты уж не взыщи, не убрано тут у нас, совсем эта компания обленилась!» В комнате кроме хорошо знакомой Нине кровати, приспособленной некогда под склад для вещей, стояла теперь и еще одна, поменьше, скорее даже кушеточка, софа, на которой в тот момент, когда они вошли, лежала свернувшись какая-то старушка, вскинувшаяся на звук их шагов.
— Ну, пошла-пошла! — сказал ей Кантор. — Вечно теплое местечко норовишь занять, хитрая какая! Беги-беги, а то тебе не останется.
И снова послышался дробный топоточек — то ли у них у всех была одинаковая обувь, то ли одинаково все бегали.
— Садись, — сказал ей Кантор, подвигая обычный канцелярский стул с прямой спинкой (он-то откуда здесь взялся?), а сам присел на кушетку. — Вот так и живем. Видишь?
Нина кивнула.
— Левушка, — позвала, просунувшись в щелку двери, та самая старушка, которую он только что прогнал. — Там Исидор Павлович банку открывал и руку поранил. Ты бы посмотрел.
— Заживет, — сказал Лев Моисеевич, — отстань.
— Кровь льется…
— Иди, я тебе сказал. Вечно ты пристаешь как банный лист.
— А Таня где? — спросила Нина, когда старушка исчезла.
— Татьяна — большой человек, работает.
— А где?
— Где все. Ты разве не знаешь?
— Нет, — сказала Нина, — а где она работает?
— А ты разве не там?
Нина пожала плечами.
— Ладно, не притворяйся, — Кантор махнул рукой. — Зачем ты меня злишь?
— Лев Моисеевич, — опять позвала старушка, — Исидор Павлович сказал, что он вас за это порции лишит.
— Пусть попробует! — рассердился Кантор. — Так и передай: Лев Моисеевич сказал: «Пусть-пусть попробует!»
— Я передам, — сказала старушка, — только ведь не послушают.
— Ладно, иди-иди. Вечно ты глупости говоришь. Так о чем мы? — повернулся он снова к Нине. — Ты-то как живешь? Замуж вышла?
— Ну если не считать того раза…
— Дети есть?
— Нет.
— А вот это зря. Это я тебе как врач говорю. Тебе уже сколько?
— Двадцать семь.
— Вот видишь!
— Лев Моисеевич! — (ну и секретарша, черт побери, досталась Кантору, ни минуты от нее покоя нет). — Они там сейчас торт делить будут. Исидор Павлович говорит, что он один не справится.
— Ну как же! — Кантор заметно приосанился, надулся даже. — Где уж ему! Всегда как что-нибудь ответственное, так Лев Моисеевич. И это при том, заметь, — это уже в сторону, Нине, — что в обыденной ситуации могут и нахамить, и куском обнести, и спереть что-нибудь по мелочи. Ну да что с них взять? Шушера! Плюгавое старичье! Ладно, — это опять шустрой старушке, — пойди скажи, что сейчас буду. Пусть ничего не трогают до моего прихода.
Старушка снова унеслась.
— Надеюсь, ты меня извинишь: момент и впрямь ответственный. А может, составишь компанию? Всю нашу колонию увидишь. Пойдем?
Нина двинулась за величественно выступавшим Кантором — наверное, она и была нужна ему в качества сопровождающего лица, без свиты он себя уже не представлял. По пути там и сям, словно специально расставленные, виднелись все те же старички и старушки. Подпустив повелителя — а в этот момент Лев Моисеевич был, несомненно, им — на предельно близкое расстояние, они срывались с места и с привычным уже топотком уносились вперед.
«Как евражки, — подумала Нина. — Вот так стоят на сопке столбиками, почти вплотную подпускают, а потом уносятся. Или это вестники какие-то?»
В кухню, благо размеры позволяли, был перетащен из столовой огромный дубовый стол, и сейчас на пустой его поверхности белела картонка торта, ставшая сразу, из-за огромности стола, маленькой и жалкой какой-то. Колонисты — так их, вероятно, следовало называть, если все это, как говорит Лев Моисеевич, колония, — став вокруг стола, не спускали с картонки глаз.
— Нуте-с, — сказал Лев Моисеевич и снял крышку, — на что жалуетесь?
То ли по привычке так сказал (врач ведь с многолетним стажем), то ли гаерствовал немного, перефразировал себя прежнего, сохраняя при этом полную серьезность.
Тот кругленький старичок, что взял у Нины в передней банку и коробку, почтительно протянул ему плохонький ножик. Правая рука у него была замотана грязной тряпкой.
— Благодарю вас, Исидор Павлович. Приступим.
Нина смотрела на лица обступивших стол людей, и бессмысленность, ирреальность, чудовищность происходящего все более поражала ее. Ведь это уже не Булгаков, а Босх, Гойя, еще неизвестно кто… Форменный бедлам, полное умопомрачение виделись в лицах людей, благоговейно и нетерпеливо наблюдавших, как ножик взрезает пухлую, жирную плоть кондитерского изделия. Да что же они — торта никогда не видели? Оголодали, одичали? Как же они дошли до такого состояния? Да и кто они, эти крысомыши?
— Ну вот и все! — удовлетворенно сказал Лев Моисеевич. — А кому мы отдадим самый красивый, самый лучший кусочек — с розой?
Возникла пауза. Глаза всех присутствующих были по-прежнему устремлены на середину стола.
— Себе и возьмите, — посоветовал серьезный старичок в очках. — Кому как не вам? Вы у нас хозяин.
— Исидору Павловичу! — выкрикнул кто-то. — Он не меньше делает.
— Нет, позвольте, — сказала полная, раскрасневшаяся от волнения старушка, похожая на ту Берту Лазаревну, что вела хозяйство в Кратове, только гораздо более решительная и словно помолодевшая. — Мне прошлый раз вообще не хватило. Наверное, я имею право!
— Тихо! — прикрикнул Лев Моисеевич. — Никто не угадал. Самый лучший кусочек торта по праву принадлежит нашей гостье, почтившей нас сегодня своим визитом и пришедшей, как видите, не с пустыми руками, Нине… как твое отчество? Сергеевне! Не слышу ликования, друзья!
— Ну да, — сказал кто-то, — только пришла — и ей лучший кусочек! А мы, значит, так — пришей-пристегни, с нами можно не считаться?
— А если не хватит опять кому-нибудь? — выступил один оппонент. — Надо посчитать сначала.
— Да у нас всегда так, — поддержала его Берта Лазаревна, — кто-то приходит, а потом своим ничего не остается.
— Ах вы неблагодарные, — рассердился Кантор, — в кои-то веки к вам приходит человек, а вы его даже угостить как следует не хотите. Мне стыдно за вас!
— Я посчитаю, можно? — спросил кругленький. — Может, тут и спорить не из-за чего?
— А я говорю — стыдно! — не уступал Кантор. — Да вы на себя посмотрите. В каком вы виде? В зеркало гляньте на свои бессмысленные лица. Что у вас осталось за душой?
— Лев Моисеевич, — сказал кто-то, появляясь в дверях, — там опять звонят. Говорят, что надо срочно зажечь все электричество.
— Электричество? Зачем? — удивился Лев Моисеевич. — День еще, и так светло!
— Не знаю, — сказал тот. — Они так сказали. За неисполнение сами знаете что бывает.
— Зажжем! Конечно, зажечь везде надо! — раздались возбужденные голоса.
— Ну, я не знаю, — согласился Лев Моисеевич. — Делайте что хотите. Пойдемте, Нина, что с этими безумцами разговаривать!
— А можно я самый красивый кусочек с розочкой съем? — подскочила к нему старушонка-секретарь. — Вы ведь уходите…
— Жри! — грубо сказал ей Лев Моисеевич. — Только не подавись, жадина-говядина. Фу, бяка!
Они прошли по тем же комнатам в спальню Татьяны. По дороге Нина отмечала все новые и новые следы запустения, развала, распада некогда блестящей квартиры, отлично отрегулированного быта. Да что там следы! Не осталось ведь почти ничего от той обстановки, не было тех люстр, портьер, картин. Ничего не осталось — пустые стены, грязный — конечно, без ковров — пол, какие-то канцелярские стулья. А в гостиной, там, где некогда собирался салон, вместо прежней софы — шаткий деревянный диван с тремя вырезанными на спинке буквами «МПС», Министерство путей сообщения, наверное. Это-то страшилище откуда притащили? С вокзала какого-нибудь?
Кто-то бежал за ними следом, не решаясь обогнать, и щелкал за их спинами выключателями.