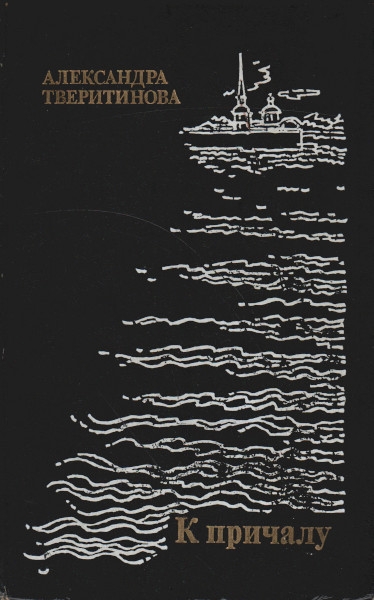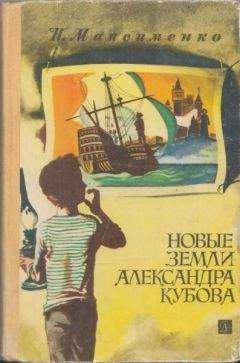из г‑гороно...
За письменным столом директриса. Глаза скользнули по распахнутой шубке. Охватили всю.
— Француженка?
Тукнуло сердце.
— Н-нет. Не француженка я.
— Немецкий, Алевтина Ивановна. Звонил Беляков.
Это говорит, входя в кабинет, черноглазая с румянцем во всю щеку завуч, Мария, кажется, Степановна, которой при мне звонил заведующий гороно Беляков.
И тоже, как и директор, окинула меня взглядом.
— Класс переростков. Хорошенько подумайте. Будет трудно, — говорит завуч.
Я подымаю лицо, и мы встречаемся с ней глазами, и я вижу вдруг в глазах Марии Степановны такое, что уже могу сказать: «Это ничего, что трудно», и тогда она, взглянув на директрису, сказала, что по расписанию в шестом «Б» классе сейчас должен быть урок, и, что, может быть, пойдем, «так, чтоб иметь представление».
Мы отправились в учительскую, где немолодая женщина в сером сатиновом халате — химик — мне дала журнал шестого «Б» класса, охватив с головы до пят все тем же удивленно-любопытным взглядом. И как только в коридоре зазвонило, учителя один за другим, с журналом под мышкой, стали покидать учительскую. И я тоже иду с журналом, в черном платье, строгом и эффектном, иду в шестой «Б», чувствуя, как во мне поднимается волнение, вроде озноба и жара, идет со мной директор, и еще завуч, Мария Степановна, и классный руководитель шестого «Б» класса — химик.
Семнадцать мальчишек и одна девчонка, забитая, загнанная. Переростки. Собрали из нескольких школ в эту новую, только что открытую. Доучить.
Едва за дверью звякнуло, в классе их как уже не бывало. И все.
Напряженно выпрямившись, стою за учительским столиком, смотрю растерянно на директрису, потом на завуча... На столике передо мной классный журнал, раскрытый на разделе: «Немецкий».
В огромные венецианские окна бьет ослепительное яркое зимнее солнце. Голову стягивает болью.
Классный руководитель вышла из-за парты, опустила руку в карман халата и, охнув, вытащила: они сунули ей в карман ручку пером кверху. Молча спускаемся в директорский кабинет. Химик посасывает наколотую руку:
— Вы не пугайтесь. Среди них есть неплохие ребята.
— Если забыть о том, что с начала учебного года трех преподавателей по немецкому загоняли, — говорит завуч.
Стою у окна, спиной к высокому подоконнику. Во рту горечь.
— Еще можно убежать. Просто вот так, взять шубку и убежать.
— Ну так как? — говорит директор.
Я стояла, не шевелясь.
Завуч отвела глаза.
— Да? Нет? — испытующе смотрит на меня директор.
— Д-да, — не сразу, с трудом отвечаю.
— Ничего, поможем, — говорит химик.
— Алевтина Ивановна, Беляков сказал, у товарища основной — французский, — говорит завуч.
— Отлично. У нас с будущего учебного года «француженка» переходит работать в институт, дадим вам два французских класса, и все будет ладно. Так?
— Хорошо.
— Диплом у вас с собой?
— И паспорт, и трудовая, и.. — я открываю портфель.
— Не надо, нет, надо. Диплом только. Ну и паспорт. Пройдите рядом в канцелярию, Надежда Павловна запишет.
— Завтра в восемь у них урок, — говорит завуч, кинув взгляд на расписание на стене. — Живете где? Недалеко? Не бойтесь. Все обойдется. Будем помогать.
Слепит глаза яркое солнце. День ясный, прозрачный, напоен зимним светом.
Радостно. Радость и страх — все вместе, слитно.
Иду и чувствую, как силы мои возвращаются. Кажется, сложная твоя радость была всегда, и, главное, всегда будет.
Пришла задолго до восьми. Сижу одна в учительской. Листаю журнал шестого «Б» класса. Приходят, здороваются. Ловлю их загадочно-сочувствующие взгляды.
Потом звонок, и все — как вчера: учителя — по классам, двери одна за другой закрываются, и я тоже с журналом под мышкой иду. Пересекаю опустевший зал, и... стоп! — класс пустой. Сердце шлепнулось и стало.
Появляются один за другим. Но бегут мимо! Мимо меня и мимо распахнутой двери класса. Молча смотрю, как бегут мимо. Стою у дверей пустого класса, смотрю со страхом и отчаянием, как гоняют по вощеному паркету зала свернутую жгутом газету. А в классах идут уроки. Время утекает. Минуты моего урока. А что, если так и не войдут? Что тогда?
Сердце тукнуло. Прибежал один. Стоит. Еще один. Сгрудились в дверях.
Нагловато на меня посматривают.
— Р-ребята, — прозвучал глухо чей-то голос, и только через несколько секунд я поняла, что это голос мой собственный.
Стою за учительским столиком. Мысли сбились. Стою, как в столбняке, растерянно глядя перед собой. Слышу топот, шелестение, смешки. Потом на мгновение прекратился топот и хихиканье.
Я сказала:
— Не надо. Не надо...
И тут произошло чудо. Чудо в моей жизни — наступила тишина.
— Вот так, — говорю я со страхом. — Ну вот и хорошо. Здравствуйте, дети. Садитесь.
И тишина впитала мои слова, как промокательная бумага. Потом я сказала, что понимаю их, что немецкий язык трудный и, конечно же, им нелегко приходится, и что я буду им помогать. Паренек на первой парте, белоголовый и глазастый, пробасил покровительственно: «Ла‑адно, больше не будем...» Мы еще успели чуть почитать, «как могли», и только было собрались писать, как раздался звонок.
Иду посередине утрамбованной снегом улицы. Не иду, а лечу. А ведь казалось безнадежным. Не бывает ничего безнадежного. Надо всегда надеяться. Я всегда стараюсь надеяться.
Разбудил яркий свет. Белый квадрат окна залит солнцем. Прорываясь сквозь расцвеченные морозом стекла, неистово било в комнату желтовато-белыми столбами золотистое зимнее утро.
Я провела его, слава богу, одна. Авдотья, как обычно, еще затемно отправилась в редакцию местной газеты мыть полы. Достала из чемодана письма Вадима. Рассыпала по столу открытки с «Авиа» Москва — Сокольники»... всматривалась в адрес французский, в адрес русский.
Перебирала, трогала, знала, что думал, когда писал это, и что чувствовал, когда писал то и это. Перебирая, трогая их, эти письма Вадима, мне уже кажется, что все происходящее со мной нереально. И уже опять я верю, что Вадим есть, просто запаздывает ответ на мой последний запрос, он придет, непременно придет, ни разу еще меня не оставляли без ответа, просто на этот раз ответ придет с опозданием.
Я буду наводить справки, продолжать розыски. Может