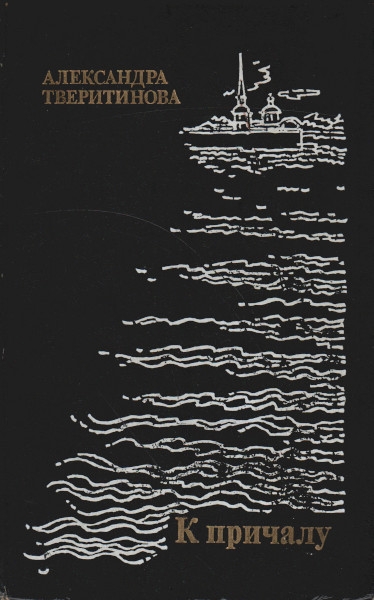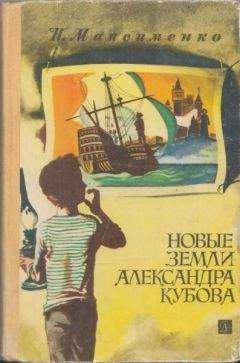бег ходиков с гирькой. В окно бьет уличный фонарь, замерзшее, оно играет алмазами.
Товарищ Беляков меня встретил, как старую знакомую, сказал, что наконец-то кончилась свистопляска с злосчастным немецким в девяносто первой школе, и что все хорошо, что хорошо кончается. Он вынул из ящика две анкеты, и давая мне листок: «Вот. Коротенько автобиографию и две анкетки и...» — «Товарищ Беляков... я...» — «Давайте, пишите, заполняйте». — И я пишу, и заполняю, замирает сердце.
— Вот и ладненько, — заглянул в листок, мельком в анкету. — Пойдете в облоно, товарищ Синебрюхов оформит. В новом учебном году дадим еще два французских класса, и все будет ладно. — Встал и протянул руку: — Ну, вот и хорошо. Синебрюхов у себя, я ему звонил.
Синебрюхов был у себя.
— Товарищ Кострова? Хорошо. Оформим. Давайте-ка ваши документы, давайте.
Вынимаю из портфеля и кладу ему на стол паспорт, диплом, трудовую книжку, автобиографию, анкеты.
Отодвинул, заглянул в анкету. Поднял глаза. — Что?! — Двумя пальцами он берет мой диплом.
— Вы почему преподаете немецкий, когда у вас специальность французский. Не имеете права.
Силюсь не свалиться.
— Немецкий у меня факультативный... там написано, вкладыш там... Я пять недель уже работаю.
— Кто допустил? — И осекся: — Беляков не имел права.
Но я уже сгребла в портфель мои документы и, чуть пошатываясь, пошла к дверям,
Побрела по берегу Волги.
«Да что со мной, собственно, делают? Надо рассказать! Все, все рассказать. Кому? Вон там, через дорогу, в том особняке. У входа на черном мраморе написано: «Областной комитет партии».
— Кострова моя фамилия... я пришла в Областной комитет партии по очень, очень важному делу. Вот мой паспорт. И диплом, и трудовая книжка, и профсоюзный билет, и характеристики... — Я облизала пересохшие губы.
Секретарь обкома читает мою автобиографию. Тупо смотрю перед собой. Прочитал. Взял анкету, пробежал глазами, отложил в сторону. Посмотрел на меня, мне показалось ободряюще.
— Соберите ваши документы. Анкету оставьте. Вот так. Все будет ладно. Подождите в приемной. — И встал.
Я перестала чувствовать что бы то ни было. Я будто одеревенела и помню только, с удивлением обнаружила, что руки мои, хотя и деревянные, берут документы, складывают в портфель, повязывают узелком косыночку, ноги мои, хотя и деревянные, прекрасно действуют и шагают прямо к выходу по ковру, толстому и мягкому, как ухоженный газон, в приемную.
У залитого солнцем окна ряд стульев. Села. Бледно-лимонное солнце бьет в спину.
Хорошо-то как. Стало вдруг ничего не надо. Ни-че-го.
— Марина Николаевна, прошу.
Сердце подпрыгнуло.
В незаметной боковой двери, как в раме, стоял приветливо улыбающийся секретарь обкома. Улыбка предназначалась мне, синие глаза его смотрели прямо на меня.
— Прошу. — Сказал мило, по-доброму.
Пригласил снова сесть, выдвинул из-за стола свой стул.
— ...За границей были? Ну и что? Да полноте.
...Искала телефон.
— Товарищ Беляков...
— Ну так, все в порядке?
Я молчала.
— Вы слушаете, товарищ Кострова? В порядке?
— Да.
— Оформим в гороно. А Синебрюховы, что ж, уйдут, отомрут. Вы слушаете?
— Да.
Так кончился этот день.
Прошел март. Начались оттепели. С Волги дует теплый ветер. В воздухе чувствуется весна.
Свободные от школы дни провожу в районной библиотеке или хожу в музей. Жанна, заведующая музейным фондом, водит меня в запасники, показывает творения русских мастеров. Мы говорим с ней о современной живописи, и Жанна взволнованно с любовью говорит о местных одаренных художниках. И, глядя на нее, думаю: сколько на свете хороших добрых людей. А в моей стране — стоит только позвать — и сколько их откликнется, талантливых, одаренных.
Проводив Жанну до площади, захватив бутылку кефира и булочку, иду домой, в тети Варину комнату, где, угнездившись в кресле, читаю или думаю о книге — моей книге, которую буду писать непременно.
Дни колдовски удлиняются, свету становится много и все чаще тянет с Волги весенний ветерок. Весна. С осени у меня будет два французских класса, Я почти счастлива.
Областная библиотека. Он сидит за постоянным своим столом. Читает. Я стою на пороге читального зала, смотрю на него и с робкой радостью думаю, что вот войду и сяду за мой стол, шепотом позову его, и он вздрогнет, обернется и брови его поднимутся. Он встанет, подойдет к моему столу, наклонится, и я близко увижу его темные радостные глаза.
Мы вышли к пристани. Шли молча. Наклонившись, приблизил ко мне свое лицо, поцеловал меня и сказал, впервые обращаясь ко мне на ты:
— Я знаю, ты меня любила. Но только на одну минутку. На один миг.
Что-то сдавило мне грудь, стало трудно дышать, приподнял меня, прижимая к себе, и еще раз поцеловал.
Дошли до причала. Сидели, откинувшись на скамейке, смотрели, как над рекой стелется туман и как идут по набережной редкие в этот поздний час парочки, как меняется освещение белой ночи — волшебное время года в этом городе, прекрасном и волнующем, ни чуть не меньше, чем тогда, когда я увидела его впервые.
Пряно пахло левкоями. Лунный свет дробился на воде. Тихо. Ни гудков, ни свистков. И не было белого, как свадебный торт, парохода. На том берегу горело несколько редких огоньков.
Я настороженно ждала разговора. Он открыл новую коробку папирос, протянул, наклонился, зажег спичку и поднес к моей папиросе. Мне показалось, он нарочно осветил меня, чтобы разглядеть мое лицо, а свое прячет в тени.
Папироса зажглась, я убрала голову от огня и сказала:
— Спасибо.
— Ну так что? — сказал он, закуривая.
Я молчала. Он продолжал разглядывать меня.
— Ну так, — повторил он.
— Я не узнаю себя в дни наших встреч, — сказала я растерянно. — Я почти все время о вас думаю. Сама не знаю почему. Ведь мы знакомы так мало.
Он смотрел на меня не то удивленно, не то жалобно — в потемках я не могла разглядеть выражение его глаз.
Я старалась угомонить свое сердце.
Где-то ниже по течению вскрикнул и пожаловался гудок. Он поднял голову, повернулся и