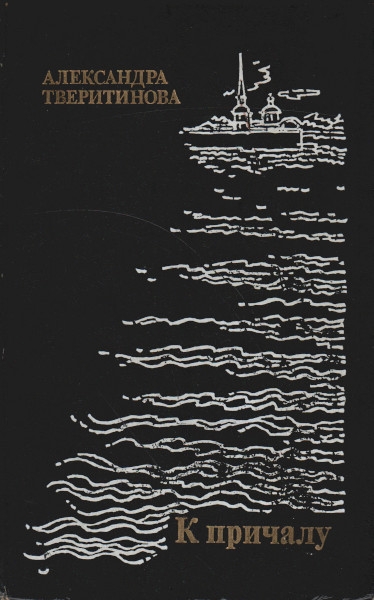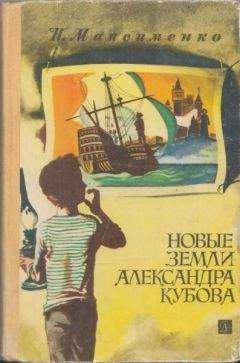быть, в какой-нибудь раз вместо «данными не располагаем», придет — «располагаем...» Может быть, он придет этот «раз».
Стало грустно. Грустно и тихо.
Из библиотеки вышли с ним в одиннадцатом часу вечера. Пересекли площадь и пошли по Республиканской вниз, к реке. Падал снег. В свете фонарей сверкали снежинки, как металлические опилки, хотя почти не ощущались.
Он шел рядом, улыбающийся, с заиндевелым поднятым воротником черного пальто. Было скользко, и он придержал меня за локоть, крепко и нежно.
— Что не приходили?
— Соскучились? — сказала я не глядя.
— Смер-тель-но.
Шли над заваленной снегом Волгой, потом, обогнув сувенирную церковку, стояли у спуска и смотрели вниз, в улицу Вадима — так с тех пор и окрестила улицей Вадима. Прихожу сюда, сижу на лавочке, думаю. Чувствую себя тут по-особому.
Снег перестал, была какая-то особая чернота в небе, над крышами. И тишина. Что-то в ней было завораживающее, в этой Вадимовой улице. Вдыхаю свежесть морозного воздуха и чувствую вдруг, на глаза наворачиваются слезы.
— Спустимся?
Я вздрогнула.
Он взял меня под руку. Заглянул в замерзшее лицо.
— Какая вы странная бываете.
Моя рука выскользнула из-под его локтя. Я почти машинально сняла с лавочки у калитки комок пухлого снега, сжала в перчатке, бросила в косые тени на фиолетовый сугроб и отряхнула перчатку о шубку.
— Почему вы молчите?
Я не ответила.
Мы шли мимо деревянных заборов, пахнущих холодом недавней метели. Мы шли, но уже не было у меня того недавнего оживления от чистоты заснеженных улиц, не было той радостной боли ожидания: «Придет? Не придет?» Точно стерлось все.
— Почему вы молчите?
Он вопросительно смотрел на меня. Глаза его уже не смеялись.
Перед каждым уроком волнуюсь, не зная, что меня ждет.
В общем, получается. Начинаешь привыкать к удачам? Какие удачи, просто все понемногу входит в свои берега.
Стараюсь включиться в обычный жизненный ритм. Стараюсь. Но вот сегодня мне отчего-то сделалось тревожно. Не могла заснуть.
Думала о вчерашней старушке, у которой теперь буду жить. Тетей Варей зовут. Работает нянечкой в больнице. Маленькая такая, кругленькая, с квадратненьким подбородочком. Согласилась взять меня к себе, в свою десятиметровую в общей квартире комнату. Рядом районная библиотека, и совсем близко моя школа.
Работаю, дышу, брожу по улицам, переулкам, захожу в деревянные тупички. Грустно и хорошо. Вечера — в библиотеке.
Когда-нибудь расскажу, а может быть, напишу о том, как в холодную, липкую, сумасшедшую вьюгу, под стрекотанье отбойных молотков ловкие девчонки готовили ямы для посадки деревьев.
Сорвался урок. Разбушевались. Стояла, в отчаянии опустив руки. К горлу подступала тошнота. Мука бессилия перед разбушевавшейся стихией. Не все оно просто.
Живу у тети Вари.
Написала Елене Алексеевне мой новый адрес, написала, что работаю в школе, что пока преподаю немецкий, но с нового учебного года мне дадут классы французские, и тогда у меня все пойдет по-настоящему, и, конечно же, про тетю Варю написала, как мне с ней жить уютно, и какая у нее комнатка славная.
Елена Алексеевна отправилась в Сокольники, отобрала из подвала годное, кое-как отремонтировала, прислала, и мы с тетей Варей вытащили громоздкий стол и мужа ее покойного кровать и втиснули в глубь комнаты наши с Вадимом парижские старички-кресла, и меж них крытый с треснувшим стеклом «двухэтажный» столик, пружинный матрас поставили на кирпичи и еще ампирный наш торшер, и получилось мое жилье. Наше с Вадимом жилье.
Захожу все чаще в районную библиотеку. Старая, редкая по богатству, библиотека. Много в ней книг и французских. Есть редкие издания, немецкие и английские. Но выглядит эта библиотека удивительно уныло. Огромные голые стены старого дореволюционного дома, холодная лестница ведет на второй этаж к обитой по войлоку клеенкой двери. Три сверху донизу уставленные истрепанными книгами комнаты. За барьером маленькая, плоская, приветливо-тихая заведующая в чем-то черненьком, линялом, с худыми бледными руками, с непроходящим чернильным пятном на третьем пальце, и девушка — на выдаче.
Я читаю «Записки» декабристов на французском языке, Пушкинский «Современник», дневники Льва Николаевича Толстого. И заведующая посматривает на меня с недоумением.
Как-то раз я набрела на радищевское «Путешествие...», девушка мне принесла и сказала, что заведующая разрешает пускать меня за барьер, к стеллажам, и брать самой, что мне надо, и я выискивала редчайшее из редкого, и потом шла в читальный зал, пахнущую гарью комнату, с круглым столом посередине, с подшивками газет, с одним каким-нибудь забредшим сюда в этот вечерний час читателем, листающим излохмаченный «Крокодил», или «Огонек», или подшивку местной газеты, усаживалась поудобнее и... как это бывало в горкомовской, — читала взахлеб и до закрытия. И вот теперь, должно быть, проникнувшись добрым чувством ко мне, заведующая стала давать мне все это богатство домой. И периодику дает, «Новый мир», «Звезду».
Дежурила по окончании урока у дверей шестого «Б» класса — таков порядок: во время перемены не впускать ребят в классы с открытыми окнами.
В овальном зале, как обычно, во время перемены не услышишь собственного голоса. И вдруг: Мари-ина Никола-аевна! Ва-аши часы-ы! Часы ваши!..» — это мой Кабанчин из шестого «Б» класса, расталкивая и отбрасывая всех на пути, пробивается ко мне. В поднятой над головой руке у него часы. Мои. Не заметила, когда и как расстегнулась браслетка. Да и целы они чудом каким-то остались в этом содоме.
Вот вам и хулиган Кабанчин из шестого «Б». Написала в стенную газету про Кабачина. Моя первая в жизни статья.
Пришла из библиотеки и обрадовалась — тетя Варя дома! Сидит в кресле с влажными волосами — суббота, ходила в баню. На полных, слегка расставленных коленях уютно мурлычет шелковисто-белая раскормленная соседская кошка.
Заторопилась ставить чайник. Пьем чай с баранками, и я рассказываю ей про Среднюю Азию, про то, какие там бывают весной дожди, когда льет и днем и ночью, и кажется, никогда это уже не кончится. Тетя Варя слушает, не сводя с меня глаз, как слушают дети.
Потом, пристроив стул с лампой, книгами, журналами впритык к матрасу, я укладываюсь в постель.
А тетя Варя, покончив с домашними делами, возвращается в кресло и, сдвинув на кончик носа очки, погружается в потрепанного, без переплета Нат Пинкертона.
В тишине мерный