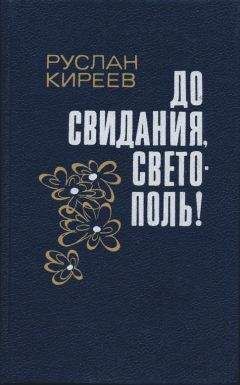С тем и легли. Проснувшись утром, мутным и плавающим со сна взглядом обвела Валентина Потаповна незнакомую комнату, такую крохотную, с трещинами на потолке. И вдруг вспомнила: Калинов! Боже мой, Калинов, где вот так же просыпалась пятьдесят, шестьдесят, семьдесят лет назад. Семьдесят! Просыпалась совсем маленькой девочкой, и то же солнце подымалось над городком, та же текла рядом река. Семейка сосен, которую видели вчера у детского садика (она подошла и незаметно потрогала одну), уже начала свою жизнь — до них и без них, вернее после них, закончит её. Закричал петух — неблизко, но его крик достиг обострённого слуха старой женщины без потерь, не утратив в пути ни своей хрипотцы, ни истаивающей протяжности. У Валентины Потаповны подкатил комок к горлу. Вдруг поняла она, что очень давно не слышала петушиной побудки, и вот сейчас, сейчас — со взволнованной готовностью подстерегал её слух — раздастся коровье мычание. Оказывается, даже это сберегла в тайнике её память. Столько разного прошло за семьдесят лет над её головушкой (она так и подумала — «головушкой» с какой‑то прежде неведомой жалостью к себе), прошло, прошумело, протарахтело, пробабахало, что кто бы мог предположить, что тайник памяти в неприкосновенности сохранит неразрывность и последовательность звуков её детского утра! Крик петуха и мычание коровы Маньки, которую выгоняла по росе мать, скрип телеги — то страшный дед Егор, их сосед, ехал с бочкой на Пёс за водой, хотя под боком был колодец, но речная вода, считал Егор, для огорода полезнее колодезной; протяжные металлические стоны на лесопильне, которые как начинались с восходом солнца, так и не смолкали до темноты… Ну, хорошо, Валентина Потаповна, тётя Валя, но я, я‑то откуда знаю и помню все это? И почему волнуюсь, описывая сейчас эту звуковую картинку? Быть может, моё сознание исподволь восстановило раннее калиновское утро по отрывочным воспоминаниям моих бабушек? Или иным, окольным путём впитались в мою кровь и плоть эти звуки?
Петух прокричал ещё раз, но коровьего мыка так и не раздалось. Негромко похрапывала Вероника (а будет утверждать, что всю ночь глаз не сомкнула), тихо дышала во сне Александра Сергеевна… Валентина Потаповна насторожённо замерла: чего‑то недоставало в этой дремотной музыке… Дыхания мужа — вот чего. Беспокойно двинула рукой под одеялом. Никого… И сразу отлегло, хотя за столь краткий миг и осознать не успела, чего испугалась, не обнаружив возле себя его привычного дыхания. Когда Дмитрий Филиппович умер, она призналась мне, что все последние годы с подспудным ужасом ждала этого. Днём ничего, а по ночам ни с того ни с сего начинала прислушиваться к нему, даже прикладывать ухо к груди, а то и легонько толкала в бок: «Дим!» Он вздрагивал и инстинктивно прижимался к стене. «Чего не дышишь?» — шептала, и он бормотал: «Дышу». В своих ночных страхах она не признавалась не только ему, мнительному, «как все мужики», но и себе тоже. Однако он был, этот страх, он поселился в ней с некоторых пор, и она до самой своей смерти казнила себя за этот преждевременный страх, который‑то, быть может, и накликал беду.
Итак, Дмитрия Филипповича не было рядом. Куда же подался он в такую рань? Это в прежние времена он вставал чуть свет, чтобы бежать «как оглашённый» к своим голубям, теперь же подымался куда позже её, к завтраку.
То и дело вворачиваю я тут словечки из лексикона моего детства — бабушек, двора, улицы. На всякий случай я закавычиваю их, но моего слуха они не режут. Вот и это определение «как оглашённый» было очень даже в ходу у нас. Чаще всего оно употреблялось применительно к Дмитрию Филипповичу. Голубятником он был заядлым. Вставал, как я уже сказал, чуть свет и мог «проторчать» возле своих питомцев до половины восьмого, а то и до без четверти, а потом «сломя голову» «понестись» на работу. Какой уж тут завтрак! Хорошо, если Валентина Потаповна успевала сунуть ему бутерброд. Он глотал его на ходу, всухомятку разумеется, и даже не замечал как, потому что его мысли были все ещё во дворе, у голубятни, на которую в эту самую минуту, быть может, слетал с крыши чужак.
Ах, эти чужаки! В них‑то и было все дело, весь смысл и смак голубятницкого искусства. В сущности говоря, сводилось оно к формуле: поймать чужого и не упустить своего. Но то формула, утилитарный знак, но — бог ты мой! — какие страсти, какие ухищрения, какие жертвы скрывались за ней!
Редко какой чужак с ходу и сам по себе плюхался на крышу. Классный голубь не осрамится так никогда. Но случалось, что возвращающийся с работы Дмитрий Филиппович, чьи глаза уже от ворот шарили в надежде поверху, вдруг обнаруживал на крыше среди своих чужую птицу. Усталость и голод как рукой снимало. Рот приоткрывался, и, не отрывая от крыши взгляда, боком, боком двигался он к голубятне.
Но то был фарт редкий. Чужак на крыше — это уже полдела, больше, чем половина. Самое трудное как раз и заключалось в том, чтобы посадить чужого, который парил иногда так высоко, что только глаз голубятника мог различить его. И парил ведь не над двором — над городом, который с такой высоты был весь перед ним. Крыш‑то, крыш! А ты попробуй опустить именно на свою.
Если чужой не слишком высоко, достаточно схватить длинную палку, которая всегда под рукой, и вспугнуть своих голубей с шеста и будки. При этом тоже требуется расчёт и навык. С одной стороны, надо вспугнуть так, чтобы голуби не перелетели лениво с шеста на крышу, то есть достаточно энергично (иногда для этого использовалась тряпка на палке), а с другой — не прогнать чужого. И тогда он, смешавшись со своими, авось и опустится вместе с ними на незнакомую ему крышу.
В том‑то и дело, что незнакомую, а голубь — птица приметливая (вспомните почтовых голубей). Поэтому она редко когда сядет сразу. Покружит, подумает, попримерится и лишь после осторожно опустится рядом с новыми товарищами. А то и не опустится, улетит.
Но это если не слишком высоко. А когда величиной с точечку, в которой тем не менее голубятник вс гда распознает свою птицу и ни с кобчиком, заядлым врагом голубей, ни с кем другим её не спутает? Тогда надо подымать своих. Для этого у дяди Димы были специальные птицы, в которых он верил свято. В какую бы высь ни поднять их и откуда бы ни запустить (даже с другого конца города), они все равно вернутся, и никакой чужак их не уведет с собой (а ведь такой риск тоже существовал) .
Запустить — неточное, неголубятницкое слово. У нас говорили «трухануть», и подразумевалась под этим особого рода виртуозность.
Не двумя, а обязательно одной рукой взять крупную и не такую уж податливую птицу и при этом держать её так, чтобы крылышки ровно лежали на обтекаемом гладком теле, а лапки были оттянуты назад. Далеко вниз отвести руку, подержать секунду, сосредоточиваясь, а затем метнуть изо всей силы. Очень важно при этом вовремя и мгновенно разжать пальцы. Чуть промедлишь — погаснет инерция размаха, отпустишь раньше — рука не успеет набрать силы. Я никогда не видел пращи, но мне так и хочется сказать: точно пущенный из пращи, взмывал вверх тугой и трепещущий комок, и лишь где‑то над макушкой старой шелковицы, которая подымалась выше двухэтажного дома, комок этот превращался в голубя. Не сразу приходил в себя, отряхивался и осматривался (вниз летели, кружась, пёрышки), потом начинал свою работу.
Дядя Дима «трухал» голубей первоклассно. Здесь у него конкурентов не было, да и кто мог сравниться силой с профессиональным грузчиком?
Даже самый ленивый и глупый голубь, заброшенный в небо с такой мощью, никогда не опустится сразу. Спячка прервана (именно в спячке, еде и любви проводят большую часть жизни домашние голуби), воли и высоты возжаждала птица. А рядом взрывается ещё один комок, и ещё, и вот уже все три набирают высоту.
Дальше от человека не зависит ничего. Его посланцам вручена судьба чужого. Как поведёт он себя? Захочет ли свести новое знакомство или, покружив и посмотрев, поразмяв крылышки, вернётся восвояси? Неизвестно… Но даже дилетанту понятно, что грех, сущий грех отлучаться в такую минуту от голубятни. Пусть голод стягивает живот, пусть стынет суп и нервничающая жена дважды, трижды, четырежды выходит звать тебя, пусть гости ждут дома или, напротив, тебя ждут в гостях, — побоку все. Бедная тётя Валя! Я не раз видел, как слезы блестели у неё на глазах и, больно закусив губу, со склонённой набок головкой быстро уходила она в дом.
Но самое важное впереди: когда чужой опустится‑таки на крышу. Особнячком держится он, осматривается и чистит крылышки. Они все чистят их после полёта, но гость, мнится голубятнику, делает это как‑то особенно, не к отдыху готовясь, а к новому полёту.
Как сманить его с крыши? Лучше всего предоставить это времени. Начинает смеркаться, свои один за одним слетают к будке, и заодно с ними может слететь чужой. А может и не слететь. Может до утра остаться на крыше (в темноте голубь видит плохо и вряд ли отправится на рискованные поиски дома), и тогда с восходом солнца надо снова быть на посту.