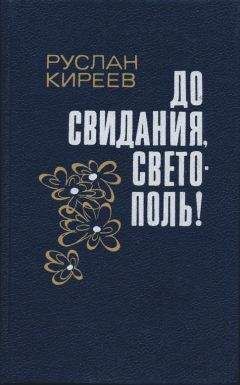Тётя Валя приходила в отчаяние. Неограниченную власть, казалось, имела она над мужем, но голубятню словно очертили волшебным кругом, переступить который она не могла.
Моя бабушка вздохами сочувствовала ей, а если честно сказать, подначивала.
— Язву себе наживёт, — сулила она. — Или чахотку. Вон как дыхает.
Это тоже наше словечко — «дыхать». Кашлять — означает оно. Дмитрий Филиппович действительно «дыхал», давясь и отворачиваясь, в рукав сунув рот, дабы лающими звуками не спугнуть с мокрой крыши чужого. Моросил дождь, холодный ветер срывал с акаций последние золотые монетки, а нахохлившаяся птица, красавица (все чужие — красавцы), сидела себе в отрешённой неподвижности. Все средства были испробованы. Сыпался корм, и свои тотчас же слетали, некоторые прямо на землю, минуя шест и будку, хотя обычно голубь предпочитает опускаться постепенно: с крыши — на шест, с шеста — на будку и лишь потом на землю; осторожная бестия! Подбрасывались на крышу супруги, по очереди несущие на яйцах свою многодневную вахту. Естественно, они сразу же возвращались, но одни. Чужой сидел, как истукан. Это была ценная птица, из породы «монахов», белоснежная, с хохолком на загривке. Хозяин, рябой Климов с Больничного переулка, выкупил его на другое утро за двадцать пять тогдашних рублей — цена неслыханная. Но Дмитрий Филиппович поплатился за этого чужого ещё дороже.
Продрогший и промокший, голодный (даже не заглянул в дом после работы), ни на минутку не покидал он боевого поста. Валентина Потаповна вынесла ему зонт, но он испуганно зашикал на неё. С ума, что ли, сошла? Зонт! Лучше уж просто прогнать «монаха»… Недоговорив, стал давиться кашлем, мокрой рукой махнул — не мешай! Она крепко зажмурилась. Ни слова не вымолвив больше, ушла с нелепым черным зонтом в руке, а он, уже простуженный, остался под холодным дождём, и вместе с ним мок на крыше «монах». Кто кого? Три или четыре птицы сидели на голубятне, время от времени поглядывая на прикрытый косяк. Дмитрий Филиппович умышленно не пускал их домой, ибо какой же чужой слетит на пустую будку?
Терпение человека победило — «монах» слетел. Не сразу, не с первой попытки — уже почти сев на голубятню, раздумал и вернулся на крышу, но потом все‑таки слетел. Дмитрий Филиппович дал ему осмотреться. Дождь не переставал, падали мокрые листья. Снова вышла закутанная в платок Валентина Потаповна, но Дмитрий Филиппович сделал страшные глаза, на голубятню показал — здесь! — и она, так и не проронив ни слова, удалилась. Он же, пятясь, стал осторожными шагами обходить будку. Сзади подкрался. Потянул было верёвку, но тут налетел кашель, однако Дмитрий Филиппович, стиснув зубы, руку к животу прижав, подавил его. Ниже, ниже опускался косяк, и вот вход свободен.
Первыми, конечно, нырнули туда свои. А «монах» остался. Даже мокрый, он представлял собой величественное зрелище. Бел, строен, на высоких лапах и с гордо сидящей маленькой головкой. Мыслимо ли упустить такого?
Дмитрий Филиппович взял палку. Она была тонкой и длинной, гибкой, специально приспособленной для того, что он собирался делать.
С величайшей осторожностью стал он подталкивать чужого к косяку. Тот чистил перья и, кажется, не замечал трогающего его постороннего предмета. Однако подвинулся, уступая, и ещё немного, пока не оказался на самом краешке. Косяк ждал его, и ждал Дмитрий Филиппович, не только кашлять — дышать переставший, ждал я, прижавшись носом к вспотевшему оконному стеклу, ждала дома, не находя себе места, Валентина Потаповна.
Палка снова коснулась голубя, но он досадливо отмахнулся от неё белым крылом. Дядя Дима замер. Ни в коем случае нельзя было форсировать событий. Малейший нажим, и чужак перепорхнёт на шест, а то и на крышу, и тогда начинай все сначала.
Терпеливо дал он ему успокоиться и снова подтолкнул, и снова «монах» отмахнулся крылом. Лишь на третий раз соизволил перескочить на косяк. Но и это ещё было не все. Многое, очень многое, но не все, ибо, когда птица на вершине косяка, как захлопнешь его? Изо всех сил сдерживал Дмитрий Филиппович кашель. А чужой между тем опять стал охорашиваться. Щеголь, он не желал являться в гости в неприглядном виде.
Изнутри доносилось гортанное воркование. Птицы устраивались на ночлег, им было тепло и уютно в своих деревянных ячейках–гнёздышках, а здесь без конца что‑то капало сверху и неприятно обдувало со всех сторон. «Монах» не выдержал. Дрогнуло маленькое птичье сердце перед соблазном пусть чужого, но крова; раз, другой, третий переступили породистые лапы, спускаясь по решётке вниз, и тут косяк захлопнулся. Ура! Ликующий Дмитрий Филиппович не знал, что это был последний «чужак» в его жизни.
До конца дней своих будет он помнить его. Вспомнит и в то раннее калиновское утро, когда Валентина Потаповна, обеспокоенная тишиной возле себя, не обнаружит его на кровати. Не про себя — вслух вспомнит, ибо рядом будет слушатель, который поймёт и оценит.
Некоторое время поднявшийся ни свет ни заря Дмитрий Филиппович молча наблюдал, как молоденький кривоносый владелец голубятни задаёт корм, как воду наливает в высокую тяжелую посудину («Опытный!» — с удовольствием, хотя и не без ревности оценит Дмитрий Филиппович: посудину мелкую птица, сев на край, наклоняет, и вода выливается), как уверенно держит одной рукой космача, а другой веером раздвигает крыло. Старый голубятник невольно вытягивает шею и видит, шагнув, что несколько маховых перьев отсутствует. Вместо них лезут молодые, но раньше, чем месяца через два, ему не взлететь.
— Чужой? — кивнув, с пониманием спрашивает Дмитрий Филиппович.
Юнец поворачивает к нему свой кривой нос. Не разумеет… Может, в здешних краях «чужих» не называют «чужими»? Иначе как‑нибудь?
Никак, отвечает мальчишка. Не принято у них. Город маленький, голубятников раз–два и обчёлся, что же ловить друг у дружки? А этого он на рынке купил в областном городе. Решил нелётным подержать.
— Лучше связывать, — негромко советует старый голубятник молодому. — Пяток перьев в каждом крыле, и никуда не денется.
Молодой опускает «веер», а затем медленно растягивает вновь.
— Переклевать может нитку. А перо что? Перо вырастет. Обновление, — грамотно говорит он.
Дмитрий Филиппович уважительно слушает, хотя понимает, конечно, что его опыт ни в какое сравнение не идёт с опытом молодого калиновца. Осторожно подымает руку, очень осторожно, затем неуловимо быстрое движение с лёгким обманом, и розовый клюв в его оценивающих пальцах. Юный голубятник смотрит на него с уважением. Не каждый сумеет поймать клюв с первой попытки, да ещё когда в чужих руках птица. Дмитрий Филиппович горд, что удалось, что не забыла рука и глаз не подвёл, но виду не подаёт.
— Харо–ош, — произносит он. — Харо–ош! Не паровал ещё?
И завязывается, и неспешно течёт обстоятельнейший разговор. Старого голубятника слегка знобит после вчерашнего купания, но какие же это пустяки по сравнению с подарком, что уготовила ему судьба! Не просто побеседовать с молодым коллегой, а и кое в чем наставить его… Как, например, проще и надёжней сохранить чистоту породы. Как научить молодняк находить дом. Предупредить кровопролитие, которое неминуемо, если новую птицу не примут хозяева… И так далее. Упомянул Дмитрий Филиппович и о знаменитом «монахе», однако о том, какую трагическую роль сыграл этот чужак в его многолетней карьере голубятника, говорить не стал.
По сути дела, карьера на нем и кончилась. Уже к вечеру следующего дня Дмитрий Филиппович слёг с воспалением лёгких, а ещё через день все голуби были проданы оптом вместе с будкой двум пацанам, которых привёл рябой Климов, хозяин рокового «монаха».
Валентина Потаповна сделала этот шаг в отчаянии. Её напугали врачи, нашедшие, что её муж предрасположен к лёгочным заболеваниям. Подзуживала и сестра, моя бабушка, твердившая, что он сведёт себя в могилу, да и что это за жизнь, когда по три раза приходится подогревать обед, а режим есть режим (за несоблюдение этого правила мне доставалось крепко). И Валентина Потаповна решилась. Что будет, то будет…
Болел Дмитрий Филиппович долго и тяжело, и, наверное, за это время она как‑то подготовила его к свершившемуся. И все‑таки мне трудно представить выражение его лица, когда впервые после болезни он вышел во двор и не увидел там своей голубятни. Шест остался, шест и перекладина на нем, а голубятни не было.
Моя бабушка утверждала, что Дмитрий Филиппович не проронил ни слова. Стоял и смотрел. Стоял и смотрел… По–видимому, уже тогда в его глазах появилось то тупое, почти животное недоумение, которое после я долго замечал в его взгляде.
Я употребил здесь слово «животное», но оно ни в коей мере не бросает тень на потрясённого Дмитрия Филипповича. Попробую объяснить.
Задумывались ли вы, почему так трогают нас страдания детей и животных? Именно детей и животных. Они терзают нашу совесть куда мучительней, чем такие же или даже более сильные страдания мужчин и женщин. Что срабатывает тут? Беззащитность, беспомощность жертвы? Но и взрослый человек, коль скоро он страдает, беззащитен перед лицом судьбы или силы. Однако он, взрослый, даже при самых отчаянных обстоятельствах может объяснить себе если не смысл, если не внутреннюю, то хотя бы внешнюю причину своих бед. Людская злоба. Невезение. Несправедливость, жертвой которой пал не он один (и это успокаивает) и которая рано или поздно будет наказана. Запоздалое отмщение за свои ли, за чужие грехи. Да мало ли что! Даже самую сильную боль приглушает понимание, что рано или поздно все кончится.