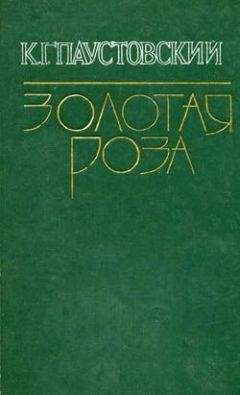Все, все сбылось, о чем вечно болела мужичья душа. Вот оно! — земля и мир — больше ему ничего не надо. Все остальное свои руки доделают, на чужие он никогда не надеялся.
От радости этой великой сам собою праздник родился в хуторе. Часам к двенадцати заходили по улице подвыпившие мужики, бабы принаряженные по-праздничному, девки. К тому же и денек выдался такой, что с улицы идти не хочется.
Лошадей друг у друга знали хуторяне, как своих. Порою мальца какого-нибудь, вдруг подросшего, не признает мужик, а лошадь за полверсты углядит и безошибочно скажет, чья она. Данинского Воронка приметил кум Гаврюха далеко на городской дороге, как только поднялся он на бугор, и объявил всем, что Виктор Иванович едет.
Стояли они тут, на взлобке возле съезда на плотину, с Ганькой, сыном, что у Прошечки в работниках был до войны, с Шлыковыми Леонтием да Григорием. Филипп Мослов тут же был, Бондарь Демид. И с противоположной стороны пруда люди приметили знакомую подводу и тоже сюда потянулись. Пока подъехал Виктор Иванович, собралось тут более полхутора, и еще подходили.
— Здорово, мужики! — весело приветствовал всех Данин, разворачивая телегу боком к собравшимся. — Сходка у вас тут или митинг?
— Митинг! — отозвался Ганька Дьяков, засмеявшись. — Только вот открывать некому.
— Давай, Виктор Иванович, расскажи-ка нам про революцию-то в Петрограде, — попросил Матвей Дуранов. Он только что из немецкого плена вернулся. Едва живой дотащился.
— Больно хороший слушок по хутору катается, — добавил Филипп Мослов. — Ты бы нам утвердил его.
— Товарищи! — впервые Виктор Иванович употребил такое обращение к хуторянам, поднимаясь в телеге на ноги. — Дорогие мои земляки! В Петрограде свершилась социалистическая революция. К власти пришла партия большевиков во главе с Лениным. На съезде Советов приняты декреты о земле и о мире. Земля должна принадлежать тем, кто на ней работает, то есть вам!
Не утерпев, кто-то закричал «ура». В воздух полетели картузы, шапки. Кум Гаврюха Леонтия Шлыкова захватил в объятия своих железных костылей и приподнял его, покружив.
— Советское правительство, — продолжал Данин, — против продолжения войны до победного конца, на чем настаивало свергнутое Временное правительство. Большевики предлагают и будут отстаивать мир с Германией без аннексий и контрибуций.
— Это тоже как раз по-нашему! — крикнул кто-то в задних рядах, послышались непривычные хлопки в ладоши.
— Вся власть на местах должна перейти в руки местных Советов. Да здравствует Советская власть!
Теперь захлопали в ладоши все дружно, разом. Никогда в жизни такого в хуторе не бывало.
— А ты бы сказал, Виктор Иванович, — попросил Шлыков Леонтий, — чего ж делать-то нам теперь? Землю самим брать, где кто захочет, али делить землемеры будут?
— Не хотелось праздник вам портить, мужики, — поскучнев, сказал Виктор Иванович, — а придется. Ведь власть-то большевиками взята в Петрограде, а здесь ее надо еще суметь взять. Вся буржуазия в городе ощетинилась, и надеяться ей, кроме как на казаков, не на кого. Так ведь и казаки не отдадут свою землю без боя, тяжко им будет расставаться с царскими привилегиями. В Оренбурге, слышно, атаман Дутов собирается установить свою власть…
Стихийный сход загудел, заволновался, со всех сторон послышались крики:
— А мы ждать, что ль, станем, пока они к нам придут?
— Они-то не ждут, — выкрикнул Леонтий, — сразу вон за шашку хватаются!
— Надо нашу, мужичью, армию формировать! — предложил Егор Проказин.
— Не навоевался, щенок! — сверкнув цыганистыми глазами, зашипел на него отец.
— Дак нам-то чего же тут делать? — добивался Леонтий. — Армия с хутора невелика выйдет.
— Вам надо власть Советскую в хуторе установить. Совет избрать да помещение для него выделить непременно. Вот Совет этот и будет защищать вашу правду..
Чуть не до потемок продолжался этот стихийный, нежданный-негаданный, никем не созванный сход. Тут же избрали Совет. Председателем его просили стать Виктора Ивановича, но он сказал, что не сможет часто отлучаться из города, потому как является членом уездного Совета. И умолчал о том, что основные-то дела были у него в городской партийной организации, вынужденной снова уходить в подполье. Сам же Виктор Иванович, по совету Федича, так и не раскрывался окончательно.
Василия Рослова и Григория Шлыкова предупредил Данин, что в городе создается красногвардейский отряд из рабочих на предприятиях, так пусть и они считают себя красногвардейцами, далеко из дому не отлучаются, а как понадобятся они, позовут их в город.
Хотели Егора Проказина выбрать председателем — отец его взбунтовался и не велел сыну власть принять. В конце концов сход сошелся на одном: быть председателем фронтовику, бедняку Тимофею Рушникову. Потом долго ломали косматые головы, где взять помещение для Совета. Все избы хуторские по одной перебрали — ничего подходящего не нашли. Филипп Мослов надоумил всех. Говорил он редко, но всегда с толком.
— Слышьте, мужики, — сказал Филипп, когда все притихли, — на той неделе был я в Демариной, видел там, истру́б добрый продается. Большой. Вот всем обчеством купить его, перевезть да миром тута вот, на бугорке, и поставить, а?
Сперва помолчали мужики, почесали в затылках, но, поразмыслив, поняли, что лучшего не придумать. Потому сразу и приговорили: завтра же ехать Филиппу в Демарино, торговать сруб, а потом без промедления всем хутором поднять его и поставить вот на этой пустующей полянке.
Расходились дружно — дел у каждого во дворе пропасть. Но праздничный настрой так и остался в душе у каждого. Так заканчивался этот воскресный день двадцать девятого октября, Василий Рослов, отойдя к углу своего плетня, остановился возле спуска к плотине, закурил.
— Вот видишь, Васька, — подходя, сказал Кестер, — тебе опять винтовку посулили, а Тимка тут всем хутором заправлять будет.
— А чем плохо? Пусть заправляет.
— Да он своим-то хозяйством никогда не правил — нечем править ему. А тут дела целого хутора! Надо ж было хоть справного хозяина в Совет ваш выбрать.
— А чего ж ты молчал-то? Там ведь торчал все время. Вот и сказал бы!
— Наговоришь с этими дураками. Им такая вот власть и нужна, какая ничего не понимает.
— Весь хутор — дураки, стало быть, а ты один умный, Иван Федорович? — пригвоздил Кестера взглядом Василий и, почесав пальцем светлый ус, добавил: — Ничего, вот прикажет ехать за бревнами Тимофей, и поедешь.
— Не поеду! — взорвался Кестер, тряхнув трубкой и отходя, ругнулся: — Плевал я на ваш вшивый Совет! Нахозяйствуете вы с такими правителями, как Тимка да вон как Шлыковы.
— Да куда ты денешься от мира, умник!
Нарушил Кестер праздничный настрой у Василия. Но вечер был не по-осеннему теплый и тихий, на большой поляне за прудом табунилась молодежь. Гармони не слышно. Кто-то тренькал там на балалайке, а девичий голос выводил:
Балалаечка гудит,
Пойду милого будить.
Разбужу — не разбужу,
На сонно́го погляжу.
Парень какой-то вклинился:
Мы с товарищем вдвоем —
Балалайка желтая.
Заиграем, запоем —
Наша судьба горькая.
Опять девичий голос:
Я иду, я иду,
Собака лает на беду.
Она лает и не знает,
Что я к милому иду.
Парень:
— Эха да эха!
На штанах прореха,
На пимишках дырочки,
Как пойдешь до милочки!
Девичий:
— Девочки беляночки,
Чем вы набелилися?
— Мы коровушек доили,
Молочком умылися.
Парень:
Балалайка ты моя,
Струны шелком.
Расскажи-ка толком,
Расскажи-ка
напрямик,
Что такое
большевик.
— Ах, черти! — удивился Василий, засмеявшись. — Сами, небось, только что сочинили… Кто ж эт у их такой башковитый?
А с другого конца улицы на заречной стороне молодой ребячий голос выводил:
Ночка — темна,
Я боюся.
Проводи меня,
Маруся.
И откуда-то с самого конца улицы звонкий девичий голос ответил:
Кудри вилися, ложилися
На левое плечо.
Ах, не я ли тебя, миленький,
Любила горячо!
Василий слушал этот праздничный вечер, и ему казалась далекой-далекой та невозвратная пора юности, когда и он так вот беззаботно бежал на улицу и проводил время в ребячьих забавах.. А потом — сказочные, краденные от всего света встречи с милой, чистой Катюхой…
Минуло все, и только в памяти осталось. Но и память эту давил груз множества невзгод. А истерзанное, испоротое штыками тело казалось отяжелевшим и неуклюжим, как грубо сколоченный из толстых досок и обомшелый озерный бот. Надо было идти домой, а там как-то помягче, поосторожнее объяснить Катерине — милой, многострадальной Кате, — что скоро ему становиться опять под ружье.