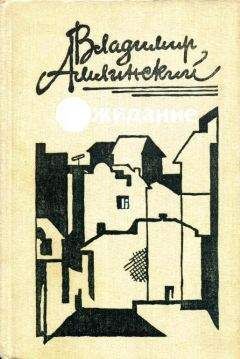Я уходил с набережной, возвращался домой, заваливался спать, говоря себе, что это хорошо, правильно так рано лечь, ведь завтра с рассвета работа, все было правильно и спокойно, но все же я чувствовал себя чуть-чуть обойденным судьбой и немного уже старым.
Какие-то другие вечера, подсказанные чуть приукрашивающей все памятью, падали с неба светящимися парашютиками под полузабытую, может быть, даже вышедшую из моды музыку.
Они были так праздничны, просторны, так много в себе содержали, так переполнены были движением, все время меняющимися лучами, словами, содержание и смысл которых почти не помню; так и сыпались эти вечера, светясь и кружась, на глинистую почву. Я отлично понимал, что они не были на самом деле такими: гораздо прозаичнее, будничнее, может, даже бессмысленнее и тупее, — трата времени и никаких там парашютиков и кружений, а всего лишь топтание по асфальту или по такой же вот глинистой земле. Вся-то радость была в том, что их можно тратить как хочешь и куда хочешь, уверенность, что их так еще будет много, оттого бесцельность наполнялась каким-то другим смыслом.
Тот самый предел, который еще только угадывался вдалеке, в темноте, теперь все явственней, все беспощадней придвигался, ты пытался обмануть время, судорожно рывками работая, но потом снова наступали провалы, дни, будто бы заполненные чем-то до предела, на самом деле — несущественные, полые, бесцельные.
Не молодая бесцельность ожидания, а вязкое, муторное предчувствие, что уже ничего, на что так надеялся, и не состоится.
— Ну ладно, я пойду, вам надо работать.
Работать, действительно, было надо, но все-таки обидно, если она сейчас уйдет. Мне захотелось ей сказать просто, что называется открытым текстом: «Не уходите, посидите или постойте, как вам угодно… Конечно, работа, но я потом наверстаю, догоню. Всю жизнь ведь догоняешь. Может, догоню и сейчас. А уходить не надо».
Но вместо этого каким-то небрежным, пошловато-легкомысленным тоном я сказал (видно, за три недели, проведенные здесь, разучился разговаривать с женщинами):
— Конечно. Небось ждут… Свидание на причале.
— Какое ж там свидание, — охотно, открыто ответила она и улыбнулась; осветились глаза, небольшие, ясные, как будто бы очень знакомые. Улыбка сделала ее женственней, старше.
Моя пустая комната с холстом, кусками ватмана, испещренными набросками, с тюбиками с выдавленной и обезмасленной крокусной бумагой красками, все это не располагало к разговору.
Впрочем, может быть, ей нравилось. Необычное всегда вначале нравится.
Она что-то стала искать в сумке, почему-то опустив глаза, как бы конфузясь, робея. Было такое впечатление, что она давно хотела что-то там найти и мне показать, и потому чуть-чуть суетливо, вслепую перебирала руками по дну красной клеенчатой сумки.
Наконец она достала какую-то книгу, показала мне. Это был «Ледяной дом» Лажечникова, детское издание.
— Тут ваша фамилия… Это вы рисовали?
— Да.
Книжка, встреча… Нет, так не бывает случайно.
А сам думаю: во-первых, откуда она знает мою фамилию, и, во-вторых, как попала к ней эта книжка? Несколько десятков тысяч экземпляров уже давно растворились. Старая книга, какими судьбами к ней попала?
Пока я думал, она все объяснила сама:
— …сказали, книжный художник, назвали фамилию, у нас ведь тут редко кто бывает. Стала у себя искать, не нашла, у меня только детские, для малышей, сын еще и читать не умеет. И вдруг случайно, в больнице, в кресле у телевизора, после отбоя, нашла эту книжку. Чудно́, да?
— В больнице?
— Да, я там работаю. В ту ночь как раз дежурила.
— Давайте пойдем куда-нибудь… Здесь есть что-нибудь такое? Если, конечно, не спешите? Ну, может, кафе, бар… Сейчас ведь всюду понатыкали баров.
— Да нет, здесь — особенно-то некуда. Летом «Поплавок» был, но закрыли, и есть еще кафе «Лель», но там одни алкаши. Да и не знаю, есть ли там еда. Вы ведь, наверное, голодны? Дед-то не готовит, а вы целый день работаете.
Она чуть насупилась, привычная забота отразилась в ее глазах, словно вот и сейчас, как всегда, ей надо было думать о том, как кого-то накормить, будто она была главой большой и вечно несытой семьи.
— Подумаешь, алкаши, — сказал я. — Я тоже был алкашом. Но вылечился. Пошли.
По свежеструганой, с пятнами клея лестнице, отдирая от нее прилипающие подошвы, мы спустились вниз.
Старик не без удивления скользнул взглядом: больной, а приметливый, все ему надо.
Но вот мы уже на улице, куда-то деловито спешим под дождем, она достает складной зонтик, прикрывает меня; зонтик заслоняет все, видны низко, косо летящие крупные капли, освещенные светом. Только округленная малость пространства, защищенная ее зонтом. Ближе, теснее, мягкое плечо под холодной кожаной курткой прижато к моим рукам.
Долго молча идем куда-то, дождь все сильнее, все назойливей. Поравнялись с ресторанчиком-поплавком. Он темный, безжизненно покачивается на темной воде, открытые, будто разграбленные, окна. Корабль не корабль, пустая кабина, покинутая людьми.
Ни машины, ни людей, наконец что-то зашумело, выкатило из тьмы, поравнялось с нами, из кабины недоверчиво смотрели. Она подошла, что-то сказала и махнула мне зонтом.
И вот сидим на заднем сиденье газика, куда-то он мчит. Я молчу, ни о чем не спрашиваю.
Выбитая дорога чувствуется так сильно, так бухают камни в железное днище, будто машина без колес и ползет плашмя.
Все это так странно, необязательно. Куда едем, зачем? Но вместе с тем и завороженность ее теплом, близостью, приятной тяжестью чуть привалившегося ко мне тела.
Что-то давнее, очень молодое увиделось вдруг в этой встрече, было ощущение, что так уже ехал, вот на этой машине, по такой же разбитой дороге. Просто ехал, не рассуждая, не раздумывая.
Но вот какое-то оживление, и свет, и музыка громыхает, мы вылезаем из газика, проталкиваемся сквозь образовавшуюся к этому позднему часу небольшую толпу тех, кто порешил уже все магазинные бутылки и теперь вот пришел за ресторанной, черт с ней, с наценкой, лишь бы дали выпить. Плечистая, похожая на мужика тетка покрикивает, чтоб не слишком толпились, деловито берет десятки, выносит бутылки.
У нее свой, привычный промысел.
А мы мимо нее ныряем в пахнущий винным чадом предбанничек, раздеваемся, и вот уже освещенный зал, выложенный почему-то сбоку кафелем, как огромная ванна. В конце зала во всю мощь громыхает оркестр, а на узеньком пространстве между оркестром и столиками, а также и в проходах, оживленно вихляясь, поднимая пыль, повторяют новомодный дискоритм разудалые молодые танцоры.
Впрочем, почему вихляются? Это мне так кажется, со стороны. Я сторонний наблюдатель, трезвый к тому же, и потому глядящий с иронией и холодком свысока. А им плевать на мою иронию и холодок, они себе танцуют, получают удовольствие.
Интересная закономерность. Во времена моей юности в столичных ресторанах, в ресторанах больших городов — оркестры играли все новейшее, а в глубинке что-то словно бы пахнущее нафталином, из другой эпохи.
Теперь же — вот прогресс — в любом, или почти в любом ресторане периферии лопают то же, что в московском «Метрополе».
Как всегда в незнакомом месте, долго ищу и не нахожу места, наконец присаживаемся где-то в середине зала, обтекаемого танцующей публикой. Наконец тишина, все садятся по местам, зал начинает гудеть и жужжать, почти вибрировать от слившихся друг с другом разговоров, восклицаний, шепотов: официант, естественно, долго не подходит, да и никто не обращает на нас внимания; только какой-то тип за соседним столиком внимательно, будто у него других дел нет, смотрит на нас, даже не то слово «смотрит», и не на нас, а на нее, вперился маленькими цепкими глазками и смотрит неотрывно.
Наконец ловлю официанта, он подходит, что-то рассеянно записывает, по-моему, и сам пьяный, все время повторяет: «Вторых уже нет, поздно, товарищи, приходите». Наконец приносит что-то холодное, несъедобное, но под водку и это пойдет. Горячая водка быстро меняет что-то в настроении.
— Конечно, плохонький ресторанчик, не то что в Москве, — говорит она. — А поверите, года два назад здесь такая уха была, издалека приезжали.
— Конечно, конечно, — подтверждаю я и совершенно не знаю, о чем с ней говорить в этом ураганном грохоте и в такой же ураганной тишине, назойливо гудящей над головою многоголосым, спертым гулом.
Внезапно откуда-то из прокуренной пегой полутьмы обозначается человек — очень бледное лицо, какой-то судорожно сосредоточенный взгляд, с удивлением вижу, что он идет прямо на нас, я даже напрягся и привстал, приготовился к драке. Но он тихо сел за наш столик.
Он не поздоровался с ней, но почему-то я понял, что он ее знает, и знает хорошо, во всяком-случае, она не удивилась. Она молчала, стараясь скрыть то ли досаду, то ли тревогу.