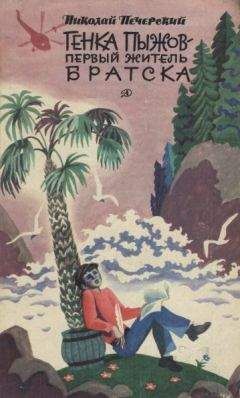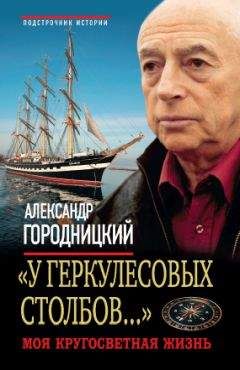— Вот так… Вот и будет тепло…
— Д-д-да, — стучал зубами Кеша. Его колотило все сильней.
Шура перевернула одеяло сухой стороной внутрь, накрыла им Кешу, подоткнула с боков и в изножье, чтобы и капля холода не просочилась к нему, и не зная, что бы еще сделать, постояла возле, подождала. Дрожь, сотрясавшая Кешу, убывала, мельчала, совсем ушла. И вот уж он опять как распаренный, отбрасывает край одеяла, жадно дышит ртом.
— Ты, милок, не раскрывайся, — уговаривала она, натягивая одеяло ему на плечо. — В комнате-то стужа. А жар костей не ломит, потерпи. Жар теперь от малины идет, полезный.
И Кеша терпел…
Она дважды еще вставала: обтирала Кешу и перевертывала одеяло — другого-то, совсем сухого, не было. Перед утром он попросил пить, и Шура подала ему все тот же чай с малиной, правда, остывший, но он и просил холодненького.
Кеша затих, наконец, и Шура так крепко уснула, что соседка с первого этажа, Белова, с которой она бегала на фабрику в одну смену, еле до нее достучалась. Хороша еще соседка — не поленилась подняться на второй этаж, ведь обычно Шура по пути заходила за ней. Поеживаясь от мутной и темной ночной сырости, шлепая по грязи и лужам торопливыми ногами в резиновых ботах, Шура так и сказала Беловой:
— Ой, спасибо! Не ты бы — проспала бы я смену… Ведь и будильник не завела, такая беззаботная!..
— Вечор, ты помнишь, вьюга злилась…
На мутном небе мгла носилась…
Вечор, ты помнишь, вьюга злилась,
На мутном небе мгла носилась…
Луна, как бледное пятно,
Сквозь тучи мрачные желтела…
— Вов, у меня трактор не едет…
— Да погоди… Ну, вот, сбил. Как там…
Вечор, ты помнишь, вьюга злилась,
На мутном небе мгла носилась;
Луна, как бледное пятно,
Сквозь тучи… мрачные желтела.
И ты печальная сидела…
Старший мальчик, лет двенадцати, худенький, похожий на сверчка, учил вслух стихотворение. С «Родной речью» в руках он ходил вокруг стола, наклонив голову, и то читал вполголоса по книге, то вполголоса припоминал. Младший, с завязанным горлом, сидел на корточках в углу и все толкал что-то по полу. От повязки шея была шире головы — лопоухой, с заячьим затылком, на котором кустиком торчал вихорок.
— А нынче… посмотри… гляди…
А нынче… погляди в окно…
Кеша уже не спал, он лежал неподвижно, навзничь, с полуприподнятыми веками. Серый осенний свет наполнял комнату, отбрасывая на потолок слабую тень двойного, в нитяной изоляции, провода и лампочки. Ничто не болело, только мутно было в голове и великие слабость и лень тяжелили тело. Не хотелось ни говорить, ни шевелиться, ни припоминать, как он оказался здесь, наедине с чужими мальчиками. Так бы вот и лежал вечность, и слаще всего, что можно так лежать. Не надо ехать с вокзала на базар, не надо выбираться из будочки сторожа под мелкий осенний дождь, — ничего не надо. Как в госпитале после операции, когда ему отняли изодранные осколками, черные, вздувшиеся ноги… За дверью и стеной напротив слышались шаги, гулкие голоса. Ага, там коридор, длинный, с цементным полом, и наверно, кухня, вчера он почувствовал ее теплый и плотный запах. Пахло горящим торфом, пеленками, щелоком, жареным луком. Вот как бросает жизнь: вчера еще базар, хриплая саратовка с потускневшими металлическими ложками, сторож и та недобрая женщина, с которой он сошелся; а сегодня — чья-то комната, чьи-то дети, мальчики… Как это случилось, по чьей воле? Судьба, все она. Едва Кеша подумал о судьбе, как призрачным видением, сквозь которое просвечивали все пятна и трещины стены, встала перед ним невзрачная, неопределенных лет женщина. Лоб двумя выпуклыми бугорками, «рогатенький», круглые глаза доброй печальной птицы. Вспомнил он и голос ее, как она уговаривала его ночью. Было муторно, удушливо, нехорошо, потом, когда она согрела его, стало по-детски сладко, покойно и жалко себя. Где она теперь? Что он ей скажет, если вот сейчас откроется дверь и она войдет и устремит на него сиротские глаза свои? Кеша облизнул шершавые, в полопавшейся кожице губы.
Дверь отворилась, и на пороге обозначилась старуха в вязенке, в темном фартуке поверх коричневой юбки и старой бордовой кофте.
— Ну, как вы тут? — спросила она, издали взглядывая на Кешу. — Шура давеча просила проведать. Спит еще…
— Спит, — подтвердил старший мальчик, прерывая зубрежку.
— Вы тут потише, не беспокойте зря.
— А мы тихо, — ответил младший мышиным голоском.
— То-то. Может, чего ему надо будет, мне скажите. Я неровно на кухне…
Дети промолчали. Старуха потопталась еще у двери, вздохнула с протяжным, скрипучим «О-ох, грехи наши тяжкие…» и скрылась.
Кеша стиснул зубы так, что захрустело в скулах, но слезы уже ползли из-под век. Младший мальчик осторожно подошел и подергал край одеяла.
— Дядя, ты спишь, да?
Кеша отвернулся к стене, открыл глаза и увидел лишь белесую пятнистую мглу. Слезы, изменив направление, потекли — одни из впадины глаза на подушку, под щеку, другие поперек носа.
— Вов, он повернулся.
— Это во сне. Отойди, не мешай ему.
— Он бы трактор мне наладил…
— Помолчи, а? Выучу стихотворение — займусь твоим трактором, а сейчас помолчи.
— Я молчу.
— Вся комната янтарным блеском
Озарена. Веселым треском…
— Как вы тут без меня?.. Как себя чувствуете?
Шура стояла у порога, в пальто, платок разматывала и смотрела на Кешу.
— Ничего, — ответил он глухо, смущенно. — Лучше. Забот вам со мной…
— Это ли заботы… Я и градусник в медпункте попросила, — Шура достала из кармана фартука картонную трубочку и положила на кухонный стол. — Мои-то свой разбили, ртуть им захотелось покатать. — Шура вздохнула, повела ладонями по фартуку, то ли вытирая их, то ли фартук разглаживая на животе. — Не очень они вам мешали?
— Нет. Я спал все.
— И не ели ничего? — поразилась Шура. — Ведь я наказывала…
— Да не хотелось.
— Это плохо. Есть надо, а то ослабеете. Ничего, я сейчас все наверстаю…
Она извлекла градусник из трубочки, встряхнула на всякий случай и протянула Кеше.
— Вот, поставьте, я время засеку.
Он сунул градусник под мышку, поежился от стеклянного тонкого холодка. Шура, совсем как санитарка, приходившая в палату госпиталя, не присев и на минуту, принялась наводить порядок в комнате: придвинула стулья к столу, поправила сбитую детьми дорожку, подкрутила пружину будильника. Кеша водил за ней глазами. Теперь, при дневном белесом свете разглядел он, что хозяйка его щуплая, на лице тонкие, как трещинки, морщинки. Волосы темно-русые, прихвачены на затылке гребенкой и гладко облегают голову. Чем дольше смотрел он на Шуру, тем уверенней думал, что и прежде знал ее. Вот и улыбка Шуры, слабая, точно бы сквозь провинность какую-то, знакома ему, и складочки под глазами, и тени в уголках, у хрупкого переносья. Что же, решил Кеша, ничего удивительного. У многих женщин нынче эта тайная печаль о незадачливой судьбе своей, у многих эта виноватость перед детьми, которые, как ни бились их матери, полной чашей хлебнули и сиротства, и оскудения, и невзгод. Теперь вот еще и он. Хуже, чем ребенок. Самого простого коснись и уже трудно; скажем, слезть, одеться, по нужде выйти. Лучше бы мужик тут был, свой брат, перед ним все не стыдно. А перед женщиной и самое малое — мука…
— Ну-ко, сколько там набежало?
Шура стояла возле кровати и протягивала узкую, как дощечка, руку. Кеша торопливо нащупал градусник, протянул.
— Тридцать восемь и восемь… Ну, к вечеру температура всегда поднимается. Сейчас лечить вас будем, кормить… — Она поднесла градусник к носу и улыбнулась. — А ко мне сегодня на фабрике кто ни подойдет, все в один голос: «Шурка, мужиком-то от тебя разит! Неужто оскоромнилась?» — Все с той же беззащитной улыбкой она покачала головой. — Бесстыдные нынче бабы, все про одно думают… Отвыкли мужиками-то пахнуть. — Она пошла в глубину комнаты, открыла кухонный стол и начала выставлять из него тарелки, солонку, хлебницу. Потом выпрямилась, уткнула палец в уголок рта и сказала задумчиво: — Помыть бы вас как… Очень вы запущенный.
Она сказала это, легонько вздохнула и вышла.
Кеша прислушался к себе. Ничто в нем не болело, только культи понывали, как обычно в ненастье. Он попробовал сесть, напряг мышцы живота и уперся ладонями в подушку. Это ему удалось, но в висках заухало, а голова тяжело свесилась вперед. Он откинулся на подушки, твердые, ватные, обшитые жестким кружевцем по углам, покорно повел взглядом по трещинам и пятнам на потолке, которые напоминали то женские и мужские профили, то фигуры животных, например, пятно недалеко от лампочки похоже было на цыпленка, такое же желтое. И опять Кеша подивился тому, как кидает его жизнь, и не без смуты душевной вгляделся в мелкие фотокарточки, вложенные в одну большую раму, что висела над детской кроватью, — в лица, что смотрели в комнату сквозь стекло — кто строго, кто с живым любопытством, на него смотрели, на чужака: мол, кто ты, как и с чем пришел в наши стены, кем пришел?..