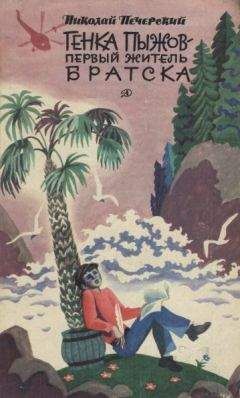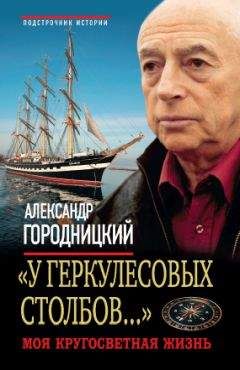Слушатели постояли еще и разошлись. Кеша поднял фуражку с земли, пустую, нахлобучил ее и стал убирать аккордеон в футляр. Теплый сильный ветер мел пыль по базару, и под стеной церкви, у человека, разложившего на чемодане книги, с шуршанием вздыбились и побежали бумажные веера. Он, привстав с раскладного стульчика, прихлопывал ладонью то одну книгу, то другую, потом, наморщив переносье, посмотрел вверх. Кеша проследил за его взглядом и заметил наползающее пухлое дождевое облако. Одиноко стало Кеше, тоскливо — ведь где-то еще и ночевать надо. И тут случайно он увидел добродушные, узкие от усмешки глаза. Смотрели они понимающе, дружелюбно и принадлежали человеку средних лет, узколицему, в заношенном костюме, человек этот сидел наискосок от Кеши, на пеньке, оставшемся от спиленного вяза. На другом пеньке, круглом и ровном, как стол, стояла клетка с выдвижным ящичком, в клетке сидела трехцветная — бело-желто-черная — толстенькая морская свинка.
Кеша, словно утопающий, так и потянулся к этому человеку. Улыбнулся — мол, так-то, брат, мотнул головой в сторону «забегаловки».
— Свежее хоть пиво-то?
— Ничего, — ответил человек мягким глуховатым баском. — Сегодня бочки закатывали.
— Разве пойти?.. Составь компанию.
— Это можно, — кивнул человек, встал и, взяв за ручку подарок, перенес его к пеньку с морской свинкой.
— Пригляди за Дусей и за музыкой заодно, — попросил он женщину, восседавшую возле мешка с семечками.
— Иди-иди, я пока тут…
В тесной и темной пивнушке народу было порядочно, но хозяин Дуси протолкнул Кешу вперед, все, заметив инвалида, подались слегка назад, уступая очередь. С двумя полными кружками они пристроились в уголке, возле бочек. Новый знакомец сел на одну из них, а Кеша и без того сидел, у него теперь всегда при себе «кресло».
— Ничего, — сказал Кеша задышливо, отпив без передыху треть кружки.
— А я что говорил.
— Давно тут?
— Больше месяца.
Новый знакомец опять посмотрел на Кешу своим глубоким доброжелательным взглядом.
— Не вышло у тебя.
— Да… Ладно, перетерпим.
— А я знаю, почему не вышло.
— Скажи тогда.
Человек поставил кружку возле себя на бочку и наклонился к безногому.
— Проще простого. Ты разжалобить людей хочешь, так ведь?
— Не знаю. Может, и так.
— Конечно, так. Все песни, какие ты пел, печальные. Ты и сам — печальный, убогий, тут все сходится. Одно тебе не в масть…
— Аккордеон.
— Вот-вот. Слишком веселая штука. И дорогая. Ты жалишься, а тыщи в руках держишь, и они, тыщи-то, в глаза людям лезут. Вроде бы и надо заплатить тебе за пенье, да плата-то малая, пожалуй, еще обидишь богатого человека.
Кеша горько усмехнулся.
— Нашли богача.
— Я верно тебе говорю. Тебе бы гармошку, да позадрипанней. А тут оркестр целый.
— Ч-черт, как я об этом не подумал, — пробормотал Кеша. — Сам ведь чувствовал — не то…
— Э, милый, — подбодрил его узколицый, легонько хлопнув по плечу, — разве все наперед обдумаешь, когда в жизнь, как с неба, падаешь. Да еще на твоем месте… — он покачал головой. — Я потому в тебе и угадываю все, что сам через многое прошел, сам туго определялся. — Он провел ребром ладони поперек туловища. — У меня вот так нутро распахнуто да зашито. Может, сойдемся когда в бане, сам увидишь… И выходит — товарищ ты мне полный, и не дам я тебе пропасть… Как величать-то?
— Кеша.
— А я Федор. Повторить пиво или как?
Кеше стало легко, весело, и он широко махнул рукой.
— Да-вай… За везенье мое не грех и водки выпить. Есть у меня ангел-хранитель, есть…
— Теперь будет, — подтвердил Федор: он понял слова Кеши по-своему.
С базара они ушли вместе. Кеша толкался колодками в землю и на коленях вез Дусю в клетке. Федор шел рядом, нес аккордеон и на рытвинах, буграх подталкивал Кешу свободной рукой в спину.
Жил он за базаром, снимал у вдовой старушки крохотную комнатенку за печкой. В ней только и умещалось, что кровать, самодельный столик не шире тумбочки да стул — гнутый, венский, с дырчатым сиденьем.
Хозяйка ничего не имела против вселения Кеши, озаботилась только, где он будет спать: кровать-то у Федора полуторная, узка для двоих мужиков. Кеша уверил ее, что предпочитает спать на полу, тут ему все легче, как раз места хватит. Старуха повздыхала, глядя на него сверху вниз, хотя сама была малоросла и сутула, всплакнула, вспомнив своих убитых, раненых, без вести пропавших, и скоро принесла довольно толстый, хоть и ветхий, в пятнах, детский матрас и длинное, тяжелое, на вате, мужское пальто.
И зажил Кеша с Федором под одной крышей, одной жизнью, согласно и дружно, словно многие годы знал и любил этого человека. Да тут и узнавать особенно было нечего: одну войну прошли они, а война людей обтесывала не хуже плотницкого топора, отрубала лишнее, в дело непригодное, так что, считай, самая сердцевина только и оставалась в человеке, то, что было в нем коренное, надежное. Федор был старше, опытней, он и на жизнь мирную, гражданскую налаживался раньше, когда война еще шла и Кешу кидало из боя в бой. Мудрый это был человек и сердечный, ровный в обхождении, пока дело не касалось его прошлого, семьи. Однажды простодушный Кеша начал было расспрашивать Федора о его близких. Тот помрачнел, жестко сжал рот и оборвал товарища:
— Чтобы не вертаться к этому, в двух словах. Есть жена и дочь, но считай — их нет. Я так считаю. И ты о них забудь, если друг мне…
Кеша прикусил язык, весь вечер поглядывал виновато на Федора. А тот старался быть таким, как до этого разговора, но не получалось у него, точно тень пасмурная наполнила глаза и тяжелила взгляд. Видно, в душе его была такая жестокая рана, что, как ни лечил он ее забвением, все зияла, кровоточила. Он потыкался из одного угла в другой, было занялся выдвижным ящиком, в котором тесно стояли пакетики папиросной бумаги, наподобие тех, в каких Кеше в госпитале порошки давали. В этих пакетиках порошков не было. На внутренней стороне их темнели машинописные, расплывчатые или выведенные четким почерком Федора строчки, обещавшие удачу, счастье, благополучие, вроде «Верь в судьбу свою — все сбудется» или — «После грозы вновь светит солнце, после тягот приходит облегчение. Тяготы позади, впереди хорошее». Федор некоторое время колдовал с этими пакетиками, восполнял те, которые были сегодня выдернуты Дусей, потом обул башмаки, ушел и вернулся через полчаса, с бутылкой. Первые стопки они выпили молча, макая поочередно хлеб и лук в солонку. Постепенно лицо Федора прояснилось, порозовело, глаза его вновь стали теплы и доброжелательны.
Аккордеон они продали. Неделю примерно искали что-нибудь подходящее, попроще на толчке и не находили. Или продавались совсем уж замученные, бросовые гармони и баяны, или тоже трофейные, нарядные слишком. И вдруг им повезло несказанно. Федор, мотаясь по базару в воскресный день, углядел саратовку с ложечками-звоночками, с цветастенькими мехами. Едва Кеша взял ее в руки, едва тронул пищики и звоночки, как отозвалась гармошка чистым, высоким звуком. И воспрянула душа Кеши, вся, до глубин, прониклась родным, не забытым, щемящим. Вспомнились ему гулянки и вечеринки ребят с механического завода, вспомнились девчата, которых провожал он поздно, после кино или танцев с товарищами своими, — милые, далекие, где, как они теперь?..
И опять он хорошо пел, так пел, что весь базар сошелся и обступил его живой стеной, и вздыхал, и плакал слез не пряча.
В тот день стал Кеша знаменитым. С того дня люди ходили на базар не только за покупками, но и его послушать, странные песни его, в которых мотив знакомый, а слова новые совсем, горячие, горькие — о сиротстве и душе истерзанной, о той жизни, что навеки в войне сгорела, о детях одиноких, женах безмужних и женихах-калеках. Чудно было все Кеше: и то, что творилось с ним, тайна рождения новых его песен, и то, что он терзает сердца людям, бередит их боли, а люди не только не гонят его прочь, — смотрят благодарно, просветленно, точно слезы глаза им омыли, и уходят умиротворенные. Чем же они успокаиваются, чем утешаются?..
Однажды Кеша проснулся среди ночи. Тихонько попискивала Дуся в своей клетке, глухо стонал во сне Федор, ритмично рассекали тишину ходики. Кеша лежал на матрасе лицом вверх. Необыкновенный, глубокий, с легкой, сладкой печалью покой был в нем и вокруг, и Кеша знал, что это его состояние продлится и завтра, и послезавтра; ему казалось, что жизнь сто устроилась навсегда, пусть бедная, скудная, без любви и ласки, но зато с дружбой сердечной, с одиночеством вдвоем, с базарной сутолокой и неторопливыми разговорами. Что было не жить так? После войны всласть была и такая жизнь…
На второй или третий вечер Кеша спросил друга, верит ли он в то, что написано на бумажках, которые Дуся вытаскивает для желающих.
— Там, понимаешь, все вообще написано, — ответил Федор. — «Верь в свою звезду» или «После бури приходит вёдро, после беды — радость» — это правда для любого и каждого. Предсказания судьбы в бумажках нет, да ее при всем желании не угадаешь — у всякого она своя, особая. Но есть еще и общая, судьба всех. Через войну люди прошли, через великое горе. Вот об этой, общей, судьбе бумажки, так что Дуся в любом случае угадывает.