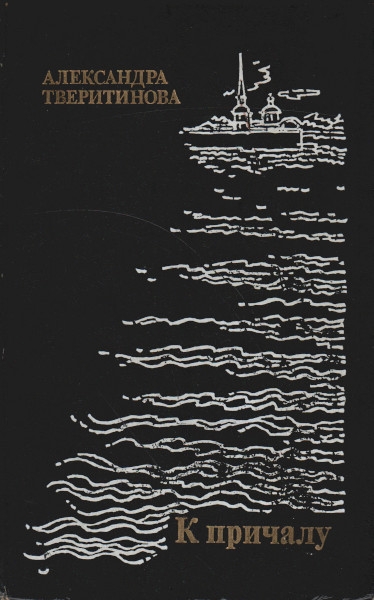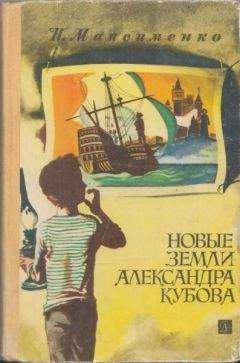что мы забываем об очень существенном: борьба между фашистами и антифашистами вышла за пределы Латинского квартала, — сказал Жано.
— Не понимаю, о чем ты? — вскинул глаза Рене.
— О том, что борьба предстоит жестокая, — отрезал Жано. — И надо быть готовыми. Вот о чем.
— Не идти ли нам учиться у рабочих?
— Не плохо бы!
— Может быть, лучше всё же окончить университет? — сказал Рене, пряча улыбку в глубокой затяжке.
— Ты хочешь сказать, что им образования не хватает. Не беспокойся, эти рабочие достигли того, к чему я хотел бы прийти. А что до образования, была бы возможность учиться, они бы... Вон в России как учатся! Институты кончают крестьяне, рабочие...
— На страницах «Юманите».
— Неправда, Рене, — сказала я. — В России рабочие университеты кончают. Это абсолютно точно!
— Ты что — знаешь? — наступал Рене.
— Знаю. И даже за границу их посылают. Специализироваться! — сказала я. — Понимаешь ты это или нет?
— Можешь убедиться сам. Живые, из плоти и кости, — сказал Жано. — Тася им Париж показывает.
Рене пожал плечами.
— Вряд ли тебе удастся удержаться на середине, старик, — сказал Жано. — Прибьет-таки к берегу.
Это были мои друзья. И когда возвращалась потом, после этих вечеров, в отель «Веронезе», они долго еще оставались со мной.
Обычно Рене провожал Жозефин на улицу Эколь, в отель «Глобус», где она жила, а Жано меня — на Веронезе.
Идем не торопясь. На сонных улицах тускло светят фонари и почти нет людей. Посматриваю сбоку на Жано. В жилах моего французского друга течет кровь тех, кто брал Бастилию...
И обступают тесным кругом с детства милые сердцу герои любимых книжек. Герои 1789‑го. И я всматриваюсь в лицо Жано, — лицо, какое бывает у людей, думающих о чем-то добром, хорошем.
Пришла Тася. Как всегда, уселась на край кровати. Медленно и молча стягивает перчатки. Глаза улыбаются. На ней новое платье. Ярко-зеленая ткань красиво облегает каждый изгиб ее стройной фигурки. Заложенные вокруг головы толстые косы отливают под лампочкой светлым золотом.
— Андрей отыскал в версальском парке «три ступеньки розового мрамора»... — говорит Тася.
— Какие три ступеньки?
— У Мюссе, помнишь: «Три ступеньки... розового мрамора»...
— Разве это в Версале?
— В Версале. Под этими ступеньками подвал. Там версальцы запирали коммунаров.
— Кто это тебе сказал?
— Андрей.
Тася смущенно улыбалась.
— Завтра уезжают, — вдруг тихо сказала она.
— Куда?
— В Америку.
— А потом снова в Париж?
Тася молчала.
— В Москву же им через Париж?
— Да. А потом через Негорелое.
— Что это — Негорелое? — спросила я.
— Так называется станция на границе России. Советская граница, — поправилась она, и вдруг: — Маринка, я выхожу замуж за Андрея!
— Ты — замуж?
— Да, я. Ну что ты так смотришь на меня?
Тася покраснела.
— Ты... уедешь? — Внутри у меня будто что-то оборвалось.
— В Россию. И ты тоже, потом. Ведь поедешь?
— Не поеду я.
— Поедешь. Сдашь экзамены и поедешь. Там зачтут. Андрей говорит — зачтут.
— Я не поеду!
— Ну что ты, Маринка? Всё будет хорошо. — Она ласково гладила мою руку. — Я знаю, ты приедешь, и всё у нас будет хорошо. Потом можно будет и бабушку забрать. Твоя бабушка с радостью поедет в Россию.
— Нет. — Я отняла свою руку. — Нет. Я буду в Париже. Я не хочу даже, чтоб и ты...
— Маринка, ты как маленькая, честное слово.
Мы долго молчали.
Когда Тася ушла к себе, я почувствовала себя одинокой и брошенной...
Советские инженеры уехали. Тася ждала писем, Андрей не писал. Она стала лениво готовиться к экзаменам. Домой являлась рано. Иной раз заглянет: «Маринка, дома? Ну, работай». А чаще шла прямо к себе.
Шли недели. Андрей молчал.
Я не спрашивала ее ни о чем, и мы не говорили об Андрее. Мне так хотелось сделать для Таси что-нибудь хорошее, обрадовать ее, но я не знала как. Каждый раз, возвращаясь вечером домой, я думала о Тасе, и мне хотелось, чтоб в Тасином ящичке было письмо от Андрея. Я бы его принесла ей. Я бы взбежала по лестнице через две, через три ступеньки, и я бы принесла ей письмо. Но каждый раз, входя в вестибюль отеля, я еще издали видела, что в Тасином ящичке пусто, и мне становилось грустно.
Как-то раз месье Дюма, увидев меня сквозь стеклянные двери, окликнул. Всё во мне захолонуло. Я сильно задолжала ему за комнату. Ведь на время экзаменов мне пришлось расстаться с конвертами. Теперь вся надежда была на лето. Найду работу — и первую же получку снесу месье Дюма. Сказать ему это почему-то я не решалась и только избегала встреч.
— Ну, иди сюда, иди, — позвал месье Дюма. Я остановилась на пороге. — Сюда, поближе, — сказал он сердито и опустился в круглое кресло за письменным столом. Упитанный, широкоплечий, с тугим животом и розовыми, тяжело обвисшими щеками, он сидел, сцепив на столе пальцы, и молча смотрел на меня.
Это было тягостно. Я стояла перед ним, крепко стиснув в руке ключ, прижав к груди набитый портфель и кулек с ужином, и ждала. А месье Дюма молчал.
— Что там у Таси стряслось? Провалила экзамены? — спросил он наконец тихо, по-прежнему не сводя с меня глаз.
Я не ответила.
— Транжирите свое время, потом расплачиваетесь. Молчишь? Твои-то как дела?
— Сдала биологию... и физическую химию.
— Гм. Химию. Это хорошо, — сказал он подобревшим голосом.
— Нет, месье Дюма, не всю еще, — заторопилась я, — еще органическую надо. Самую трудную.
— Гм... орга-ни-ческая... трудная она, говоришь?
— Очень. Ужасно трудная!
— Та-ак. Ну, иди, учи ее, эту орга-ни-ическую.
— Покойной ночи, месье Дюма.
— Покойной ночи.