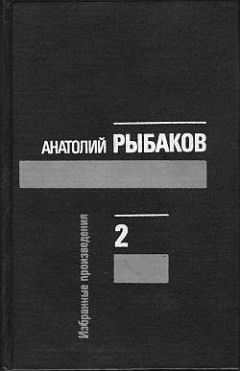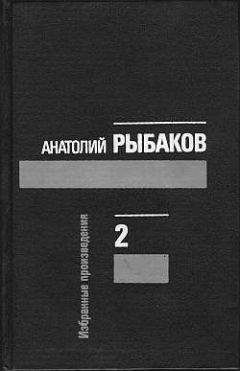— Думаешь, я не могла в Москве остаться? Сколько угодно! За меня большие люди хлопотали. Сама не захотела.
— Слушай, она категорична, бестактна. Но она не делает людям подлостей — уже это хорошо. У нас с ней общая работа.
— А я тебе помешала, — печально проговорила Лиля.
— Нисколько. Не она мне нужна, я ей нужен.
— Тебе еще попадет за меня.
— За что это?
— Устроил, встречаешься… Ведь здесь не Москва, всё знают.
— Никогда не говори об этом. Никогда, слышишь!
Она покачала головой.
— Нет, Володя, не принесу я тебе счастья. Ты талантливый, все это говорят, а я тебе только помешаю. Видишь, даже вести себя не умею.
— Мне никто не нужен, кроме тебя, — сказал Миронов.
— Я совсем не такая, как ты думаешь. Ты не знаешь, что я повидала, чего хлебнула, и никогда не узнаешь. Я давно приехала и все не решалась встретиться с тобой. Обстоятельства заставили, не могла никак устроиться на работу. Я не хотела идти на наш завод, но никуда не брали. — Она закрыла лицо руками.
— Не страшно, — сказал Миронов, — справимся.
— Меня посадят, — сказала Лиля, — и тебя, если будешь со мной. Нет, нет, ничего не надо. Ничего не хочу.
— Я люблю тебя, всегда любил, я ждал тебя, — сказал Миронов.
— Ничего не выйдет, Володя, — она вынула платочек, вытерла глаза, — тогда не вышло — и сейчас не выйдет, и ничего ты не знаешь.
— Прошу тебя, успокойся, поговорим в другой раз. Идет?
— Идет, — прошептала Лиля и заплакала опять.
А улица шумела и веселилась — главная улица областного города в солнечный воскресный полдень. Толпы людей растекались по магазинам, кафе, закусочным, и новые толпы вливались в нее из боковых улиц и переулков. За столиками кафе люди пили, ели, смеялись, разговаривали, дети играли в скверике, в воздухе дрожала мелодия песенки. И не верилось, что кому-то нет места, нет выхода, нет надежды.
На следующий день он подошел к ней в цехе.
— Прости меня, Володя, — сказала Лиля.
— Это за что?
— Прости, что я поехала с тобой, я не имела права.
— О чем ты говоришь?
— Я люблю другого человека, — прошептала Лиля.
— Так. — Он видел, что она говорит неправду. — Это тебе не помешает встретиться и поговорить со мной.
— О чем нам говорить?
— Я прошу тебя.
— Ну хорошо, — сухо проговорила Лиля, — завтра.
…Груды соли лежали на берегу. По реке, уже окутанной предвечерним туманом, тянулись баржи с нефтью, с серным колчеданом, лесом, углем.
Лиля останавливалась, наклонялась, морщилась, жаловалась, что ей жмут туфли.
— Ладно, — добродушно сказал Миронов, — эта дорожка не для твоих туфель.
Они присели на доски, издававшие смолистый запах сосны и сухой, щекочущий запах свежих опилок. Лиля сняла туфли, вытряхнула песок.
Миронов, улыбаясь, смотрел на нее. Не так уж, наверно, жмут ей туфли. Просто хочет удержаться в состоянии враждебности. Но это ей не удастся. Сейчас она рассмеется, улыбнется ему, как улыбалась позавчера в магазине и кафе, как улыбалась, когда они шли в толпе по оживленной улице и он держал ее руку в своей.
— Ну, так что? — вытряхивая туфли, спросила Лиля.
— Может, поженимся?
— Я тебе все сказала: я люблю другого.
— Это мы уладим, — засмеялся Миронов.
— Нам нечего улаживать. С чего ты взял? Смешно. Ты совсем не то подумал. Мне хотелось посидеть за рулем. Ты сам предложил. Если бы я знала, что ты так поймешь, я бы не поехала. Я поехала с тобой просто по-дружески. Неужели мы не можем быть хорошими товарищами?
Он взял ее за плечи, повернул к себе:
— Я люблю тебя.
Освобождаясь, она повела плечами.
— Я тебе сказала: я люблю другого человека. И уеду к нему.
— Врешь, конечно. Кто он?
— Парень. Какая тебе разница? Простой парень. Не всем же быть знаменитостями.
— И ты уезжаешь к нему?
— Уезжаю.
— Зачем ты устраивалась на завод?
— Тебе жалко, что зря устраивал?
— Ах ты дура, дура.
— Только тебя я должна любить, почему? Ты ведь тогда отказался от меня.
— Тогда тебе было семнадцать лет, — сказал Миронов.
— Ведь ты жил без меня, и я жила без тебя, и дальше так жить будем. И не хочу я жить здесь — мне здесь все противно, все равно уеду.
Он взял ее за руку:
— Никуда ты не уедешь.
— Ты так думаешь, имеешь на меня права?
— Конечно.
— Даже так! Может быть, считаешь, что я у тебя в долгу? За то, что на работу устроил? Пожалуйста, могу рассчитаться, если тебе это требуется.
Он молча смотрел на нее, на ее измученное лицо. Она закрыла лицо руками.
— Прости меня, Володя, прости, это ужасно, что я сказала, но мне так тяжело, у меня ничего нет, ведь я предупреждала тебя: не надо было нам видеться… — Она вскочила. — Прости меня, Володя, дорогой. — И, увязая в песке, побежала от берега.
Другие события заслонили прошлое, отбросили его далеко назад.
Лилю Миронов почти не видел. Но однажды к нему подошла Фаина, сияя сказала:
— Поздравь, Володя, девочка у нас теперь, дочка.
— Лиля вышла замуж?
— Вышла, да не вышло. Ничего. Чей бы бычок ни скакал, а телочка наша…
Лиля снова появилась на заводе. Она изменилась, стала еще красивее. В улыбке ее, обращенной к Миронову, было что-то новое, доброе, что-то от прошлого, которое касалось только их двоих.
Все в ней было законченное, сложившееся, завершенное. Раньше она ни на кого не была похожа. Теперь она стала похожа на других, таких же красивых, уверенных в себе зрелых женщин.
Как-то Миронов поехал на стройку жилых корпусов. Разыскивая прораба, он поднялся на третий этаж и увидел женщин, их было пять или шесть, гревшихся возле железной времянки в пустой, только что оштукатуренной, еще не побеленной и не оклеенной комнате.
Они сидели тихо, как сидят строители, знающие, что среди этих бесчисленных пустых комнат их никто не найдет, если только сами они не будут шуметь, не выдадут себя своими голосами.
Грязные, еще не промытые окна не пропускали солнечного света: в комнате было темновато и от запаха сырости, от красного накала железной времянки казалось еще темнее.
Лиля сидела на полу, вытянув ноги в стеганых брюках и крошечных зеленых носочках. На полене возле печки сушились ее валенки. Телогрейка была наброшена на плечи для того, чтобы можно было прислониться к сырой стене. Под курткой была голубая, низко вырезанная майка, обнажавшая тонкие руки, нежную шею и худую грудь с заметными ключицами. Ушанка была сдвинута на затылок.
— Баранова не видели? — спросил Миронов про прораба.
Фаина махнула рукой:
— Ищи в шалмане.
— Посиди с нами, Володя, — сказала Лиля, — все мы холостые, любую выбирай.
— Темновато здесь, разглядеть вас трудно.
— Не пугай его, Лилька, — вступила в игру Фаина, — а то в самом деле напугаешь.
— Сейчас Баранова пришлю — сгонит он вас с теплого местечка, — сказал Миронов.
— Куда гнать-то, — возразила Фаина, — нет материала, не подвезли материал.
Лиля лениво улыбнулась:
— Для себя работаем, собственные квартиры строим, сами себе начальники, ты нас лучше не трогай.
— Вас тронешь, — ответил Миронов.
Это был единственный случай, единственная встреча, когда Лиля вела себя так свободно. Шутливость ее была добрая, дружеская, но она завершала их прошлые отношения: Лиля говорила и шутила с ним так, как говорила и шутила с другими.
10
Будущему историку покажется, быть может, самым поразительным то, что мы называем прозаическим словом: «заводской коллектив». В людях, объединенных на первый взгляд только производственным процессом, он увидит прообраз будущего общества. Завод для рабочего — это его завод, репутация завода — его репутация. Он хочет, чтобы завод был знаменит делами, а не кляузами.
Коршунов не придавал этому значения: общественным мнением надо руководить, а не руководствоваться. И с Мироновым не сговоришься, прав Ангелюк. Но признаться в этом Коршунов мог только самому себе: выглядеть в данную минуту умнее других — в этом и состоит секрет руководства.
Коршунов позвонил прокурору в присутствии Ангелюка.
— Для обвинения Миронова не собрано никаких данных, — ответил прокурор, — основания к прекращению дела бесспорны.
— Я рад, что все кончилось благополучно, — сказал Коршунов и положил трубку.
«Прокуратура — „карающий меч“, — подумал Ангелюк, — вот кого туда понасажали».
— Ну что ж, — сказал Коршунов, — никто не хотел плохого Миронову, но обстановку на заводе надо разрядить. Я думаю, управление согласится перевести Миронова на другой завод. Хорошие инженеры всюду нужны.
Он опять поднял трубку и велел соединить себя с Верхним.
— Кого вы там найдете? — усмехнулся Ангелюк. — Время десять, они свои часы соблюдают.