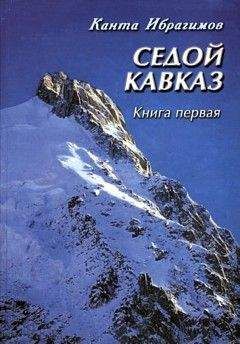Не враз удалось Дарье склонить деда Михайлу, чтоб немедля пуститься в погоню за непутевыми мужиками.
Вернулась на крыльцо — хвать, мешка-то нету! Выбежала за ворота, а Митька уж во-он где нахлестывает вожжами коня. Подхватила на сходцах подойник и пошла на задний двор коровушек доить.
Весна, хоть и робко еще подступалась она в этом году, все-таки давала себя ощутить. Минувшей ночью мороза почти не было, и теперь, только полыхнули первые лучи солнца, весело влезли они в прогал между плоской соломенной кровлей и плетневой стенкой, враз осветив загон каким-то праздничным светом. Солома под ногами и та, словно только что умытая, светится ярко-белым сиянием. Коровушки и бычки стоят важные, блаженно жмурятся, не торопясь размеренно ужевывают жвачки, не то что зимой, когда под ногами намерзают пудовые мерзляки, перемешанные с соломой и покрытые куржаком. Шерсть на коровушках всклочится, тоже куржаком подернется. Прилечь скотинке негде: жмется она друг к дружке либо к плетню. Скрючатся, согнутся все в три погибели, особенно после водопоя, когда сгоняют их на речку. И так всю зимушку. Какое там молочко — горе одно!
А теперь все притихло, смирилось, будто в великом таинстве ожидания сигнала к буйному веселью.
Присев возле недавно отелившейся Чернухи, Дарья размеренно шмыгала по соскам, из них попеременно — то из одного, то из другого — бились тугие теплые струйки в белую стенку подойника, звеня по жести. А под сердцем у Дарьи вдруг забилось трепетное, щемящее и разлилось по всему телу сладкой болью. Аж кровь бросилась в лицо и опалила его жгучим пламенем.
Особенно взволновало и даже испугало немножко то, что загадочное это и тайное напоминало о себе сегодня уже второй раз. Не старый дед Михайла оторвал ее до зорьки от затяжливого утреннего сна, а вот это самое, что беспокойной крылатой птицей бьется внутри.
Дарья и не заметила, как сзади к Чернухе лениво подступил прошлогодний красно-пестрый бычок, сунулся короткой мордой к Чернухиному хвосту, обнюхал и судорожно вздернул верхнюю губу, тряся головой и вытягивая шею. Чернуха двинулась вперед и, шагнув через подойник, опрокинула его, а концом копыта больно ткнула Дарью в ногу. Дарья успела вскочить. Но бык, неожиданно высоко взлягнув задком, подпрыгнул, размашисто крутанул башкой с короткими тупыми рожками и, задев Дарью под низ живота, бросился за Чернухой.
Страшно взвизгнула от боли Дарья и хлестнулась навзничь, как подрубленная. Во дворе у колодца крутила крюк Настасья, подтягивая наполненную до краев водой тяжелую бадью. Выхватив ее из жерла колодца и поставив рядом со срубом, Настасья, приподымая подол длинной юбки, бегом пустилась на задний двор.
Дарья, лежащая навзничь, и опрокинутый подойник объяснили Настасье многое. Еле сдержавшись от вскрика, она припала к груди Дарьи, услышала биение сердца и принялась тормошить ее. Отлившая было от лица Дарьи кровь снова залила тугие щеки. Дарья открыла глаза и застонала.
Настасья помогла ей подняться и, перекинув вялую руку Дарьи себе через плечо, повела в избу.
В постели Дарья металась, извивалась вся, ровно вертел ее кто сильной и беспощадной рукой, словно упивался ненасытный истязатель муками женщины. То как огненной стрелой отрубало поясницу, то снова боль колючим ежом ворочалась в низу живота, и от этого мерк в глазах свет, по лицу катились холодные талые градины пота. Она не стонала, а лишь изредка всхлипывала, жадно хватая воздух и не прикрывая пересохших скоробленных губ.
— Чего ж делать-то, Марфа, станем? — спрашивала в который раз Настасья у старшей снохи. — Шибко ведь ей плохо. Не отлежится, знать-то.
— Ксюша! — позвала Марфа золовку. — Добежи до бабки Пигаски, покличь ее к нам. Скажи, что Дашу бык изнахратил.
Ксюшка, скорая на ногу, живо слетала к соседям и привела бабку. Та, шагнув через порог и на ходу стаскивая с себя суконную, истертую чуть не до дыр шаленку, поинтересовалась:
— Чегой-та стряслось у вас, бабы? — и, не слушая пояснений, протопала в горницу, приступилась к болящей.
Ксюшка услужливо подсунула знахарке широкую щелястую табуретку и потянула было с бабки старенькую поддевку, повисшую на одном плече, чтобы унести ее на вешалку, но бабка не дозволила этого. И, поправив на плече легкую одежину, вгляделась в Дарью, выразительно пошевелила кусочками облезлых бровей, жалостно спросила:
— Как ж эт ты, Дарьюшка, сплошала-то?
Дарья, закусив нижнюю губу, лежала мертвецки бледная. Подушка под ней взмокла.
— Бабы, водицы мне горяченькой да посудину еще какую, — приказала бабка, откинув одеяло и загибая подол холщовой исподницы на Дарье.
То, что увидела там Пигаска, поразило ее: низ приподнятого живота вроде бы поголубел весь. А слева темнело круглое пятно, величиною с медный пятак.
— М-м-м, — загадочно потянула бабка, поправляя на голове чехлушку и опять же значительно шевеля остатками бровей. — Глянь, родимая, — показала она Настасье, принесшей воду, на внушительный синяк. — Эт ведь не иначе рог бычиный здеся пропечатался. А тута, видать, башкой да шеей он ее долбанул… Не миновать греха.
— Чего ж теперь будет-то? — округлила испуганные глаза Настасья.
Услышав этот разговор, к ним подошла Марфа. Поглядела бесстрастно на Дарью, с укором выговорила Настасье:
— Не молоденькая, чать-то, знать должна, чего в таком разе бывает.
— Нет, бабы, — заключила Пигаска, поднимая к локтю по жилистому сухому цевью рукав зеленой холщовой кофты, — водицей этой не отойтись — баньку, знать, истопить надоть да поскорейши.
— Сичас я, сичас, — заторопилась Настасья. — Ксюшка, пойдем со мной, пособишь мне кизяков унесть.
— А вы чего тут пялитесь! — цыкнула Марфа на ребятишек, столпившихся кучкой в дверях. — Чего вы тут не видали! — И пошла, широкая, кораблем врезаясь в ребячью толпу, щелкая нешибко по головам, протурила всех от двери и сама ушла к печи.
Вымыв и распарив костлявые руки в горячей воде, бабка Пигаска взялась водить ими по животу Дарьи. Делала она это с великой осторожностью, даже с нежностью, сначала едва прикасаясь к телу, а потом постепенно увеличивая нажим. Морщинистое, изжелта-черное лицо ее вытянулось больше обычного, нижняя губа отвисла, угольки зрачков уставились в одну точку на стене — словно бы колдовала над болящей. Потом, видимо, утомившись и чувствуя под руками притихшую Дарью, стала жмуриться, как угретая в печурке кошка. Продолжая водить руками, повторяла и повторяла одни и те же движения.
Ноющая с резкими перепадами боль утихомирилась, отдалилась от Дарьи на какое-то время. И теперь она, разомлевшая и успокоенная, воспылав великой благодарностью к этой чужой бабке, тихонько и ласково вдруг заговорила:
— Благодать-то какая! Спасибо тебе, Пигасеюшка родная. Легко-то как стало!
Бабку ровно кнутом огрели — враз поджала губы, подобралась вся, глаза угольками загорелись. Отдернула от Дарьи руки, будто обожглась, зашипела со злостью:
— У-у, оборотень ты этакий, сила нечистая! Какая я тебе Пигасеюшка?
— Ой, да прости, прости ты меня, бабушка добрая! — залилась Дарья краской стыда. Знала она, что прозвище это шибко не любит бабка, да вот запамятовала в избытке благодарности. — Прости меня, милая. Охмурилась я, глупа́я… Да ведь и звать-то не знаю как тебя…
— Не знаешь, — опять со злостью зашипела Пигаска, — и знать тебе не надоть. Зови, как все, баушкой.
Достав откуда-то из глубины широченной сбористой юбки пузырек, служивший ей табакеркой, Пигаска тряхнула на ладошку мельчайшего, перетертого с золой табаку и принялась набивать им нос. Вдоволь насытившись зельем, всласть высморкалась в изнанку подола и опять вернулась к прежнему занятию.
Но природа делала свое дело. Недавно испытанное блаженство при всем усердии бабки не возвращалось вновь к Дарье. Хуже того, совсем неожиданно перехлестнуло ее таким жгучим ударом, что она не удержалась и коротко вскрикнула. Потом эти простреливающие удары стали повторяться все чаще и чаще. Снова пошел холодный пот, однако теперь Дарья не вскрикивала, даже не стонала, лишь напрягалась вся струною, то скручивалась в тугой клубок, то вытягивалась в нитку.
— Да распустись ты, глупа́я, — увещевала Пигаска. — Держи тело-то киселем, легчей станет.
Когда уж совсем надвинулись сумерки, в горницу забежала Ксюшка:
— Натопили мы баню-то, бабушка, вымыли все чисто. Настасья счас явится.
— Давай сбираться станем, касатушка, подымайся, — велела Пигаска Дарье.
Собирались они долго и мучительно. А потом все трое, вместе с Настасьей, отправились в баню и пробыли там до глубокой ночи.
Вконец измученная, опустошенная, вся враз обмякшая Дарья через великую силу с помощью Настасьи и бабки Пигаски добралась до приготовленной постели и сразу — как в пропасть провалилась — мертвецки уснула.