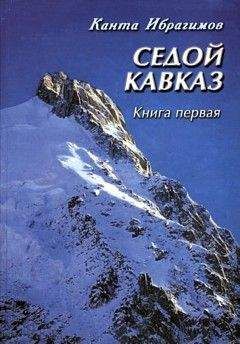Вырос парень совсем незаметно: никому он плохого не делал, и ему никто поперек дороги не вставал. Жениться собирался Васька, невесту приглядел, но деду сразу сказать этого не посмел, а теперь и сам раздумал: все равно осенью нынче в солдаты идти, на действительную.
И взгрустнулось парню. Сидя на комле бревна и поставив ноги на сани, он почесывал кончик облупленного носа, а широко раскрытые голубые глаза его все время двигались, будто искали чего-то по пригретому весною полю с осевшим снегом, то по редкому березовому колку с густым подлеском в стороне от дороги, то сливались с голубым спокойным небом. Нелегко примириться с тем, что будущую весну уж не увидишь в родных местах. А он вырос, не отъезжая от своего хутора больше тридцати верст.
Васька хотел было спрыгнуть с саней, пройтись по дороге, размяться — до дому уж недалеко, — но снег на ней будто водой взялся, до того сырой — пимы враз промокнут…
А когда въехали в хутор, тут и сани, и подточенные, стертые за дорогу концы бревен тащились по лужицам.
Разгрузились за речкой, на месте новой усадьбы Рословых, а потом всей артелью пошли к ним ужинать. Пока распрягали лошадей, Макар сбегал к Катерине Лишучихе, содержавшей что-то вроде своеобразного шинка, и принес четверть водки.
Мужики, сгрудившись у порога возле рукомойника, повеселели, увидев у Макара эту посудину, лежащую на сгибе руки, словно младенец.
— Ну, ты поторапливайся, черт двужильный, — поталкивал Филиппа Мослова Порфирий. — Всем умыться-то надо… Как в пир идти, так и голову чесать… Ждет ведь она там, родная, как бы не выдохлась.
За хлопотами в толчее своих и чужих людей Макар не сразу обнаружил отсутствие Дарьи. Хватился, когда шум пошел в голове от водки.
— Чегой-то Дарью не видать? — спросил он у Марфы. — Где она?
— Захворала она, в горнице вон лежит хворая твоя Дарья. Ровно подтолкнул кто Макара, выбрался из-за стола, пошел в горницу. Пробыл там недолго. Вернулся злой. Протрезвился, как и не пивал вовсе.
— Ну чего, мужики, — спросил Макар, — еще, что ль, по одной?
— Чарка на чарку — не палка на палку, — подхватил Порфирий и подставил свой стакан. — Поди, выдержим. Подавай, не стесняйся.
А Филипп Мослов, не желая, видать, поддаться великому искушению до мокра искупаться в этом зелье, откланялся и ушел раньше всех.
Прежде чем выпить остатки, Порфирий с сожалением повертел в руках до половины заполненный стакан и, явно не удовлетворенный, вздохнув, изрек:
— Батюшко винцо красит шею и лицо, грудь мягчит, а карман легчит. — И, не глотая, как в бочку, выплеснул из стакана.
Скоро четверть совсем опросталась, и мужики, покачиваясь, один по одному вылезли из-за стола. Чужие подались восвояси, свои — во двор, скотину убирать на ночь. Макара с ними не было, а куда он исчез — того никто не знал, потому как Макар еще разок завернул к Лишучихе. Задержался он там не шибко долго, но, поддав на готовое, вернулся с осоловелыми глазами.
Отворив калитку и держась за нее обеими руками, он пошатался с минуту, как тополек под ураганным ветром, оттолкнулся от калитки и, будто вплавь, пустился по двору. Сзади отчаянно жалобно звякнула щеколда. Неуверенно ступая вихляющими ногами, Макар двигался на Мирона, остановившегося под навесом с вилами в руках.
— Делиться! — грозно объявил Макар, подступаясь к брату. — Делиться — и все тута! — Смятая шапка чудом держалась у него на затылке, белявый волнистый чуб клочьями повис над покрасневшими мутными глазами, прикрыв всю левую половину лба.
К братьям подошел Тихон, тоже с вилами.
— Делиться, говоришь? — усмехнулся он. — Давай, давай, делись.
— Делиться! Сичас! — кипятился Макар.
— А с батюшкой ты посоветовал? — насупился Мирон.
— С ба-атюшкой! — враз словно бы потрезвел Макар. — Насоветуешь с нашим батюшкой!.. Делить всю хозяйству на паи, батюшке свой пай достанется — не обидим. Не стану я тута с вами чертомелить… Навели черт-те сколь этого хозяйства, а проку на грош. Сам же он сказывал, что чертомелим хуже, чем на барщине. Тама хоть барин удоволен был, а тута — кто? В работниках мы у своей скотины живем, а добра ни она не видит, ни мы… Дарья вон ребеночка скинула, — вдруг прослезился Макар, — хворает. А все отчего?..
— Эх, Макар, Макар! — тяжело вздохнул Мирон. — Да ведь жизня-то кругом такая. Ослеп ты, что ль?.. Али с Марфой моей такого не бывало, али с его вот Настасьей? Али не хороним каждый год младенцев, уже рожденных? Да ведь бог милостив — дает новых.
Это рабское смирение старшего брата с судьбой взбесило Макара. Все, что тихим громом долго копилось в трезвом мозгу, теперь всколыхнулось и начало плескаться наружу.
— Дак так, стал быть, и переть это ярмо до гроба?! — взревел Макар, аж побледнев. — Эх вы-ы! — он вышиб из рук Мирона трехрожки, те самые, какими пригвоздил недавно волка, и устремился было к конюшне, но его перехватил и придержал Тихон.
Братья уцепили Макара под руки и повели в избу, а он бился, нещадно ругался, кричал:
— Пустите, пустите, изверги! В город поеду, через суд свой пай у вас вырву, а жить с вами не стану!
Оттого, что солнышко закатилось, а двор еще не накрыли мягкие весенние сумерки, в избе стоял полумрак. Дед Михайла, сидя на широкой лавке возле стола, чутко вслушивался во все звуки и, ничего не видя, отлично знал, кто что делает. Тревожный шум во дворе, никем в доме не слышимый, уже несколько минут беспокоил его, и оттого большие пальцы рук, сложенные на изгибе клюки, сучили друг возле друга, оборачиваясь все чаще, по мере того как нарастало волнение деда. Однако он давно приучил себя к выдержке и, не опережая событий, терпеливо ждал их разрешения.
Когда мужики, пыхтя и чертыхаясь, лезли в низкую дверь, а Макар твердил о разделе хозяйства на паи, дед все понял: не впервой заговаривал об этом сын его младший.
— Чего, Макарушка, опять тебе паи спать не дают? — проскрипел дед. — Ну-ка, ребяты, давайте-ка его мне сюда…
Братья подвели пьяного к деду, удерживая за руки. Бабы сгрудились к столу, а ребятишки, зная, что в таких случаях большим не до шуток, заняли более безопасные места: на печи, на полатях, в дверях горницы.
— Отделяй, батюшка, и все тута! — предстал перед дедом Макар.
— Я т-тебя отделю! — поднялся Михайла, и его бадик раза два хлестко прошелся по плечу Макара. Тот рванулся, увертываясь от деда, потому костыль стал попадать то по Мирону, то по Тихону.
— Вот тебе! — приговаривал дед. — Вот тебе, пьяный варнак! — А клюка в немощной его руке все ходила по старшим сыновьям, не задевая Макара.
— Вот чего, ребяты, — еле выговорил, задохнувшись, дед, — вяжите его опояской да спать кладите… Ишь ведь чего удумал — на паи! Всю хозяйству по ветру пустить, стал быть. Ах ты, бездельник!
Мужики для порядка связали Макара мягкой суконной опояской, стащили с него пимы и уложили в горнице на половик, бросив сверху его же шубенку.
— Ты спервоначалу проспись, — уговаривал брата Тихон, — посля на трезвую голову потолкуешь.
12
Васька Рослов, как только мужики с Макаром ушли в избу, не теряя времени, схватил метлу и, торопясь, начал махать ею по высохшему от морозца двору. Не враз его выметешь, двор-то, большой он. А Ваське скорее хочется сделать это да повидаться с Катюхой.
Если бы еще в дороге из Боровой какая-нибудь гадалка сказала, что пойдет он к зазнобе вечером, ни за что не поверил бы Васька: к чему себя и девку тревожить, к чему бередить больное место? А теперь вот понял — не усидеть дома. И спать ляжет, так не уснуть, пока не повидается с Катькой.
На землю пали короткие вечерние сумерки, потому как солнышко давно закатилось, а месяц, вися над курганом за реденьким облачком, не мог пока одолеть и отпугнуть потемки.
Васька замел мусор в угол двора, собрал его в кучку. Оглянулся на темное кутное окно: спать, стало быть, улеглись все. Вышел за ворота, прошагал мимо Дурановых, избушку бабки Пигаски миновал — вот он и Прошечкин дом…
Трепещет сердечко, колотится, будто косогон у сенокосилки: выйдет ли Катька-то? Поздно уж. Спать, наверно, легла. Отбежал за угол Прошечкиного тына, притаился, прислушался и громко три раза свистнул. Долго, показалось, ждал — ни звука уловить в ответ не мог. Повторил троекратный свист и опять затаился.
Это сигнал у них такой условный был — свист. И знала его Катька еще с осени. Сегодня, конечно, не ждала она Ваську, а потому спит, видать, беззаботно. Не дозовешься ее.
Приуныл Васька и совсем уж было вернуться домой собрался, но тут натужно засвиристела старая калитка, будто простуженная ворона каркнула. Выглянул из-за плетня Васька — стоит Катюха в короткой шубейке, в наскоро накинутой серой шали, по сторонам оглядывается и никого, понятно, не видит. Налетел на нее Васька ураганом, обнял и закружил. Под пимами тонкий ледок в лужицах захрустел звонко.