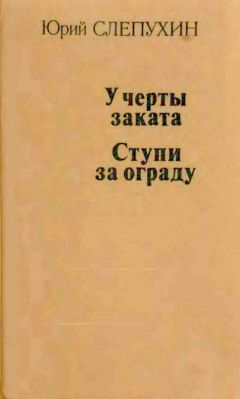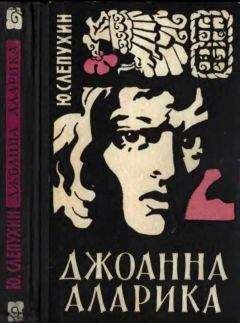Наутро Фрэнк объявил за завтраком, что хочет пожить несколько дней в охотничьей хижине в горах: втайне он надеялся, что мать станет отговаривать его или что кто-нибудь — ну хотя бы Сью — выразит желание отправиться в хижину вместе с ним. Не последовало ни того, ни другого; мать сказала только, что это хорошая идея, — в хижине давно никто не живет, пора привести ее в порядок. Потом она добавила, что хорошо было бы, если бы Фрэнк все же спускался в город по воскресеньям послушать проповедь.
— А ты не хочешь со мной? — спросил Фрэнк сидящую рядом сестру.
— Еще чего! — фыркнула Сью. Потом, наверное, ей стало немного стыдно, и она добавила: — То есть, конечно, я поеду с тобой, чтобы вымести паутину. Но жить в горах, бр-р-р…
— Верно, там же нет телефона, — улыбнулся Фрэнк. — А насчет уборки не беспокойся, я сам все сделаю.
В этот же день он и перебрался. Джеремия сказал, что дорога к хижине расчищена, и предложил отвезти его на своей машине, но Фрэнк решил доставить себе еще одно удовольствие и договорился со старым Фонтэйном, у которого были лучшие сани в городке. Старик, хорошо знавший его отца и деда, обиделся, когда Фрэнк упомянул о плате. Сидя рядом с ним и то и дело понукая лошадь легкими подергиваньями вожжей, Фонтэйн расспрашивал о жизни на Юге, о работе Фрэнка, о том, не нашел ли он себе хорошую девушку. «Дома мне не задавали столько вопросов», — подумал Фрэнк с горечью.
До хижины они добрались еще засветло. Внутри оказалось не так запущено, как боялась миссис Хартфилд; правда, пришлось немного повозиться со всякой мелочью — перекосилась дверь, дымоход оказался чем-то забит и не тянул, проказливые сойки растеребили мох между бревнами. Когда развели огонь в очаге и позатыкали все щели, в хижине стало совсем уютно.
Фрэнк достал из чемодана бутылку «Лорд Калверта», расковырял и вывалил на сковородку банку свинины, заварил кофе. Фонтэйн оказался незаменимым собутыльником, и они просидели за столом чуть ли не до полуночи — старик рассказывал о случаях на охоте, о лесном промысле, о ловле трески у мыса Код, о своих похождениях во Франции, где он служил в войсках Першинга, о незабвенных временах сухого закона.
— Тут кругом сплошь были одни самогонщики! — в восторге орал старый нечестивец, выставляя взъерошенную бороду. — Ты Лероев знал, которые жили возле церкви? Они после вернулись в Канаду, чего-то здесь не прижились. Так вот ихняя старуха — упокой господи ее душу, — эта старуха Лерой гнала такой самогон, что за ним приезжали из Огасты, из Монпелье, из Барлингтона — отовсюду. А власти ничего с ней не могли поделать — лопнуть мне на этом месте! — потому что нравом эта старуха была что твой гризли. Хижина у ней была туда, ниже по ручью, возле самого брода… После она сгорела, может, кто поджег. Так вот, констебль к ней раз туда приходит, она его и на порог не пустила. Он тогда вернулся с шерифом, а старуха Лерой открывает дверь и выходит с винчестером. «А ну, — говорит, — подходи по одному, сукины дети…» Ну, те постояли и пошли обратно — ничего не сделаешь, верно? Все-таки леди, не станешь же с ней драться. Я тогда тоже гнал, только у меня хуже получалось. Из картошки — это здесь дешевле всего. Видно, не тот у меня талант, а вот Лероиха — та гнала, как Джонни Уокер, ни у кого в графстве не было такого самогона…
Наконец запас подобных историй был исчерпан, виски выпито, старик Фонтэйн взгромоздился в сани и поехал домой, оглашая лес псалмами богохульного содержания. Фрэнк проветрил комнату, на всякий случай заложил дверь брусом и с наслаждением завалился на скрипучую расшатанную кровать.
Прожив в хижине два дня, он понял, что лучшего отдыха и быть не может. Самым приятным оказалось исчезновение времени — часы остановились, потому что он забыл завести их после пьянки со старим Фонтэйном, и время остановилось тоже. Дни стояли мглистые, бессолнечные, на много миль вокруг не было ни одной фабрики, по гудку которой можно было бы сверять часы, поезд в Мэплз-Вэлли проходил рано утром, и Фрэнк никогда его не слышал. Для него, привыкшего распределять свой день буквально по минутам, это «вневременность» составляла главную прелесть его теперешнего существования. Единственным ориентиром во времени остался календарь, на котором Фрэнк каждый вечер зачеркивал одну цифру.
Вставал он рано — в маленьких окошках едва брезжило утро, выстуженная сквозняками хижина казалась нежилой, вода в бочонке у двери успевала за ночь подернуться тонким игольчатым ледком. В одной пижаме он выскакивал наружу, делал гимнастику, обтирался снегом. Хозяйство его было несложным, но достаточно трудоемким: приходилось рубить дрова, стряпать, почти за полмили носить из ручья воду. Решив до конца вкусить всю прелесть дикарства, Фрэнк перестал бриться, и теперь то и дело удовлетворенно потирал на подбородке щетину. Сперва она кололась, а потом стала мягкой и податливой.
Он много ходил на лыжах, всегда со старым отцовским «ремингтоном» за плечами — в надежде подстрелить какую-нибудь дичину. Но крупная дичь что-то не попадалась, лишь однажды он увидел довольно близко небольшого уопити — олень оказался с наветренной стороны и не замечал опасности, но был так красив, что Фрэнк не прикоснулся к ружью. Потом он утешал себя, что все равно не сумел бы правильно разделать тушу.
По вечерам после ужина, вымыв и начистив золой посуду, Фрэнк сидел за столом под висящей в проволочном кольце керосиновой лампой и читал старые журналы. Ящик этих журналов, очевидно запасенных для растопки, он нашел на чердаке и очень им обрадовался. Журналы были в среднем его ровесниками — конца двадцатых годов, начала тридцатых, читать в них было нечего, но разглядывание старых фоторепортажей оказалось интересным занятием, вполне под стать всему стилю жизни в этой хижине.
О Беатрис он думал нечасто и уже как-то спокойно. Ее портрет стоял на полочке у кровати, рядом с последним снимком отца. Оба фото были почти одного размера: капитан Хартфилд, в мягкой фуражке полевого образца, широко улыбался, а девушка рядом с ним очень серьезно смотрела большими миндалевидными глазами. Однажды Фрэнк подумал, что вот так же, как сейчас присутствует в хижине портрет Трикси, могла бы присутствовать она сама. Они спали бы на этой кровати, и по утрам он вставал бы первый и готовил кофе, а она следила бы за ним своими блестящими внимательными глазами, укутавшись до носа в меховое одеяло. И даже эта картина, представившаяся вдруг совершенно отчетливо, как недавнее воспоминание, не вызвала в нем боли.
Гораздо чаще думалось ему об отце — слишком многое напоминало здесь о нем. Дома, в первый же день, он нашел отцовский чемодан, пересланный тогда из армии с его вещами. Старый и вместительный, с широкими ремнями и солидными медными запорами, он лежал в кладовой, куда Фрэнк зашел за своими лыжами; его желтые кожаные бока были потерты и исцарапаны, а на крышке были еще видны полустертые, когда-то отпечатанные белой краской буквы «Кпт. Дж. А. Хартфилд». Фрэнк тут же забрал чемодан, переложив в него свои вещи из пластмассового, купленного на Юге.
Об отце напоминало и ружье — Фрэнк хорошо помнил день, когда отец привез из Огасты этот автоматический пятизарядный «ремингтон», новинку по тем временам. Многое в хижине было сделано руками отца или хранило следы его пребывания, например темные пятна на подоконнике, куда отец имел привычку выколачивать золу из своей трубки. Или место на очаге, выщербленное каблуками сушившихся тут отцовских охотничьих сапог.
Фрэнку почему-то все чаще приходила в голову мысль, что его жизнь сложилась бы совсем по-другому, будь жив отец. И не в смысле материального положения — оно со смертью отца ухудшилось сравнительно ненамного. Например, ему казалось, что и с Трикси все было бы совсем иначе, что отец вовремя нашел и подсказал бы ему какой-то выход. Да, отца он потерял именно в таком возрасте, когда отцы бывают нужнее всего — отцы-друзья, с которыми можно говорить как мужчина с мужчиной…
Капитан Хартфилд погиб 14 октября 1943 года, в день, прозванный «черным днем американской авиации», при первом опыте глубокого дневного рейда без сопровождения истребителей. Объектом эксперимента командование VIII воздушной армии не совсем удачно избрало Швейнфурт — город в самом сердце Германии, расположенный в полутора часах полета от ламаншского побережья.
Дело кончилось катастрофой: из двухсот пятидесяти «крепостей», принимавших участие в операции, шестьдесят две были сбиты над Германией, а сто сорок вернулись с тяжелыми повреждениями. Почти шестьсот человек квалифицированного летного персонала — пилоты, навигаторы, бортинженеры, радисты и воздушные стрелки — погибли в воздухе, были расстреляны при парашютировании или остались до конца войны в немецких лагерях. И это не считая всех тех, что истекли кровью в возвращающихся на базы изрешеченных машинах или умерли позже в английских госпиталях…