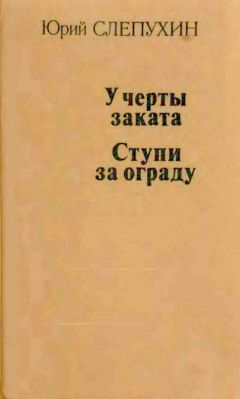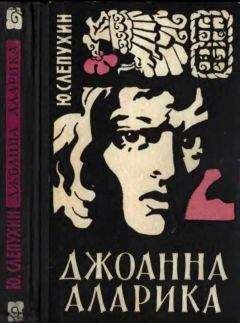Конечно, его самого это не касалось — подписаны какие-то там соглашения или не подписаны. Его не касалось и то, что погиб человек, испытывая обреченную машину. В конце концов, еще меньше касался его тот факт, что подонкам из «Уэстерн электроникс» удалось подписать с его фирмой контракт на поставку заведомо негодного, устаревшего спецоборудования; у него в кармане нет ни одной акции «Консолидэйтед», ему плевать, теряет ли фирма на этом или не теряет. Все эти вещи его не касались, но он не мог проходить мимо них равнодушно, не мог просто потому, что здесь нарушались принципы, в которых он был воспитан и которые исповедовал с упрямым до фанатизма пуританством уроженца Новой Англии.
На другой день привычные хозяйственные заботы, тишина и долгая прогулка на лыжах вернули ему хорошее настроение. Почему-то он теперь больше стал думать о Беатрис, как будто воскресная новость — это лишнее доказательство всеобщей продажности — заставила его снова взглянуть туда, где ничто не продавалось, где даже измена могла оставаться чистой…
Прошло несколько дней. Однажды утром, когда Фрэнк, гогоча от холода, растирался перед хижиной снегом, его удивил шум мотора. Шум приближался, и через несколько минут из-за деревьев показался старый «форд» Джеремии.
— Ты что ж, прохвост! — радостно крикнул брат, выскакивая из машины. — Чего ж ты молчал столько времени!
— О чем? — спросил Фрэнк. У него мелькнула вдруг ослепительная и сумасшедшая мысль: Трикси сообщает о своем приезде, и дома подумали, что он знал это заранее. — О чем я молчал?
— О чем, о чем! — Джеремия дал ему тумака и захохотал. — Мы, оказывается, важные теперь персоны! Нас посылают в Германию, о нас пишут статьи в журналах! Фрэнки, скотина!
Фрэнк смотрел на него остолбенело:
— Я — в Германию? Кто меня посылал в Германию, опомнись. А что за статья?
— На почте получили свежий «Коллирс» — о тебе статья Альтвангера на десять страниц, с фотографиями, пишет, что ты в числе лучших специалистов американского авиастроения едешь в Германию налаживать какое-то там сотрудничество… Ну, статья, конечно, не только о тебе, вообще о Германии…
— Дай-ка журнал, — сквозь зубы сказал Фрэнк, быстро натягивая рубаху.
— Да нет его у меня — ма понесла показывать миссис Коулз. Едем скорее, дома прочитаешь!
Фрэнк, надев свитер, шагнул в сени и, обрывая вешалку, дернул с крючка куртку.
— Ты чего ждешь?! — яростно крикнул он брату, не попадая в рукава. — Разворачивай машину — задом мы отсюда поедем, что ли?!
9
После того как уехал Гейм, Беатрис несколько дней ходила как потерянная. При всей своей неопытности в такого рода делах она — хотя бы из книг — хорошо знала, что такое физическая страсть, как она проявляется и до какой степени способна поработить человека, не защищенного культурой, воспитанием или принципами. Всего этого у нее самой было вдоволь — и принципов, и воспитания; она видела на себе этот блестящий панцирь, но уже боялась дотронуться до него, втайне опасаясь, что при ближайшем рассмотрении он может оказаться раскрашенным картоном. В самом деле, временами Беатрис чувствовала себя обнаженной и беззащитной перед тем, что на нее надвигалось.
Ужасно было, что это произошло именно с нею, Альварадо. С нею, всегда такой уверенной в собственном моральном превосходстве над большинством, в своей способности противостоять любому плотскому искушению…
В том, что это искушение было только и исключительно плотским, можно было не сомневаться. Можно было не обманывать себя на этот счет, не утешаться никакими красивыми словами «о родстве душ».
О какой душевной близости можно говорить, когда нет простого понимания.
Более чем наполовину Ян был для нее непонятен. А то, что она в нем разгадала — или считала разгаданным, — никак не способствовало возникновению внутренней близости. Он был холоден к людям, равнодушен к жизни; Беатрис не могла избавиться от чувства, что даже за его безукоризненным поведением в отношении ее самой, за его почтительной сдержанностью нет ничего, кроме того же равнодушия; он просто не считал нужным снизойти до настоящего ухаживания.
Беатрис не могла не сознавать, что до сих пор именно она сама все время ждала от Яна чего-то, в чем он ей неизменно отказывал, мягко, но решительно. Холодея от стыда, она безжалостно напоминала себе случай за случаем. Когда ей хотелось побыть с Яном подольше — он провожал ее домой. Когда ей хотелось встретиться с ним назавтра — он делал вид, что не догадывается об этом, и назначал свидание на четвертый день. И когда — самое позорное ее воспоминание! — когда она ждала, что он ее поцелует, ждала и хотела этого — он тронул губами ее щеку и отстранился…
Вспоминая, она каждый раз чувствовала, что никогда не простит Яну этого вечера, хотя сам он ровно ничем ее не оскорбил. Она была оскорблена и унижена своим собственным трепетом, внезапной своей слабостью, угодливо подогнувшей ее колени при первом прикосновении Яна, своим мгновенно вспыхнувшим и неудовлетворенным желанием. Она понимала, что во всем виновата сама, и знала, что не простит этого Яну Гейму до конца жизни.
О, если бы во всем этом была хоть капля любви! Ее не было и не могло быть, было лишь минутное влечение, унизительное, как всякая страсть, не подчиненная ни сердцу, ни разуму. Ведь не только разум — даже сердце Беатрис предостерегало ее от этого человека; порою ей становилось просто нехорошо от какой-то тоскливой уверенности в том, что ни к чему хорошему знакомство с Геймом не приведет. И несмотря на все это, влечение оставалось.
Дело было не только в его внешности — он был, пожалуй, слишком красив, а красивых мужчин Беатрис не любила даже на экране. В Гейме привлекало другое — его особенная манера держаться, сдержанная и чуть ироническая, за которой (помимо равнодушия) она угадывала жизненный опыт, всегда импонирующий женщине. В нем ощущалась большая внутренняя сила, и это ощущение лишало Беатрис воли, делало ее в присутствии Гейма послушной девчонкой, робко поглядывающей на высшее существо. Немыслимо было ему противиться; даже сейчас, когда она решилась наконец вырваться из этого унизительного рабства, он словно угадал ее намерение каким-то дьявольским шестым чувством и лишил Беатрис даже этого — права оставить за собой инициативу разрыва. Брошенной, в конечном счете, оказалась она. Брошенной в тот момент, когда этого захотелось ему!
И самым страшным было то, что Беатрис уже сама не верила в свои силы. Поединок оказывался слишком неравным, и предчувствие неминуемого поражения наполняло ее тоской и страхом.
К середине января жара в столице достигла сорока градусов в тени. Промучившись несколько дней, Беатрис решила сбежать в Мар-дель-Плата, где климат был немного прохладнее и к тому же имелась возможность не вылезать из воды с утра до вечера.
Ехать машиной Беатрис побоялась — не так просто в эту одуряющую жару сделать четыреста километров по узкому, перегруженному движением шоссе, которое уже давно из-за обилия катастроф прозвали «дорогой трагедий».
За билетами — на поезда, на самолеты, на автобусы — стояли огромные очереди. Потолкавшись у касс, Беатрис уже решила или рискнуть жизнью за рулем, или вообще отказаться от поездки; к счастью, подвернулся какой-то оборванец, предложивший ей — шепотом и втридорога — драгоценный билет на послезавтра.
Рейс был из самых неудобных — послеобеденный, автобус отходил из столицы в час дня. В довершение беды проданное оборванцем место оказалось на самом солнцепеке — с правой стороны, у окна. Имея уже некоторый опыт автобусных путешествий летом, Беатрис сразу поняла, что ее ждет, и приготовилась к худшему.
По-слоновьи вырулив из ворот автобусной станции, громадный тяжелый пульман долго пробирался в густом уличном движении, то и дело застревая в пробках. Авенида Орнос, авенида Монтес-де-Ока, ржавые туши проданных на слом пароходов в мутной от нефти Риачуэло, зной, горячий ветер, пыль. Беатрис с тоской смотрела на пробегающие мимо фабричные корпуса — как могут люди работать в закрытых помещениях при таком зное? И еще говорят, что есть места, где приходится стоять около всяких печек…
Миновав виадук Саранди, автобус прибавил ходу, захлопали шторки на открытых окнах, от встречного ветра в салоне стало немного прохладнее. Беатрис задремала, а когда ее разбудил какой-то толчок, они уже были за Кильмесом. Автобус летел полным ходом, половину окон пришлось закрыть из-за сквозняков, а солнце уже сошло с зенита и с каждой минутой больше и больше накаляло правый борт. Начала болеть голова. Беатрис всухую сжевала таблетку и стала следить за километровыми столбами — казалось, что так они пролетают быстрее. Флоренсио Варела, Брандсен — 65 километров от столицы. Хеппенер — 80. Альтамирано, Гайдара — 100. Четверть пути уже есть! Часкомус — 120, стоянка четверть часа. Снова в дороге — в салоне еще жарче, парусиновые шторки уже не спасают от солнца, которое бьет теперь прямо в лицо. Адела, Лесама — 150 километров, Кастелли — 177, Севинье — 190, Долорес — 203. Ровно полпути!