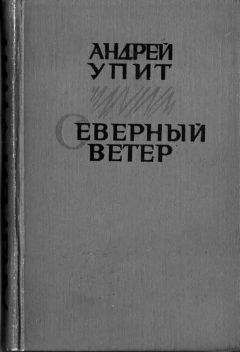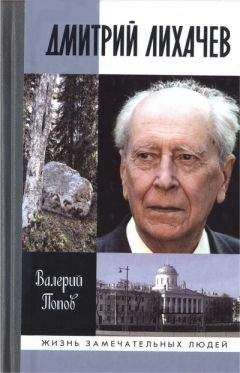В свое время Андрей много слышал о портном Адыне. Но последнего происшествия с шубой бривиньского Ешки наверняка не знает. Мартынь Упит сел на старого конька, глаза заблестели, язык обрел прежнюю бойкость.
С шубой дело было так. Понадобилось сшить обнову Ешке Бривиню. Но Рупрехт к каждому пьянчужке не поедет. Пришлось позвать того же Адыня. Пять больших овчин — из них шуба должна выйти богатая, до самых щиколоток. Но на примерке Ешка видит — шуба получилась чуть ниже колен. Ясное дело, портной опять сжулил. Но что скажешь, не пойманный — не вор. Прошлую зиму в Бривинях жил Ян Браман. Когда некуда было деваться — нанимался в батраки. Позвал на подмогу Дудинского, и в субботу вечером засели в кустах у Диваи, ждут, когда портной пойдет прямо через реку в Викули. Схватили его и давай тормошить. Тот кричит, будто его режут: «Убийцы, разбойники! Помогите, люди добрые!» А под пальтишком вокруг живота обмотана овчина бривиньского Ешки, самая лучшая, курчавая, припасенная на воротник. Если уж такое обнаружилось, церемониться больше нечего, загнули ему на голову пальтишко и давай стегать. Адынь больше и не думает кричать, стиснул зубы и только охает. А Дудинский ножиком перед ним вертит: «Под ребрышко, под ребрышко вору!» Привели в Бривини. Ян Браман ни за что не хотел отпускать — связать, к уряднику, к мировому. Да бривиньский Ешка хоть и пьяница, но не мстительный. Так портной и отделался дешево…
Должно быть, надолго хватило бы рассказов о бривиньском Ешке, но внезапно музыка замолкла, и сейчас же за кустом можжевельника раздался мощный взрыв смеха, затем послышался громкий голос Преймана.
— Задал я ему! Русскому крыть нечем, язык как прилип. Только и выдавил: «Оправдан! Не доказано, что он нарочно». Я ему покажу, не нарочно! Есть еще высший мировой суд, сенат — дойду до Петербурга…
Теперь уже Мартынь Упит чувствовал себя совсем свободно. Изображая повадки Преймана, он хватил ладонью по колену Андрея.
— Еще одна тяжба! Судится из-за того ведра извести, которое вылили ему на голову каменщики, когда он сунулся ревизовать постройку новой школы.
Об этом Андрей уже слышал, ему больше хотелось знать о самом Мартыне: правда ли, что он собирается стать испольщиком в Яункалачах?
Мартынь выпятил грудь и одним духом выпил стакан. Не испольщиком, а почти арендатором. Старик Яункалач умер, при домишке осталось тридцать пурвиет с лугами и пастбищем; комната для второго арендатора тоже имеется. У них с Лизой сейчас корова и телок, четыре овцы да поросенок. Дело за лошадью. Поручиться за него лошаднику Рутке обещал молодой Яункалач.
А почему бы и не поручиться! Разве Мартынь кого-нибудь в чем надувал? О телеге сговорился с Карклом, тот собирается поселиться у станции и стать лесорубом. Земелька не бог весть какая, но лен там родится, сеять можно. И разве Лиза не умеет дергать, а он трепать?
Мартынь прямо-таки сиял от великолепных видов на будущее. Довольно, нахлебался батрацкой похлебки, пора работать на себя! Все могут, а он хуже других, что ли? Он с Лизой! Даже смешно! Одна лошадь в первый же год заработает на покупку другой: на вывозке бревен из Даудзевского леса к берегу Даугавы курземцы загребают до полутора рублей в день. Арендатор Яункалачей в новом домике какой-то палеец или юнкурец, совсем слабенький мужичонка, жены нет, сын чахоточный. Никакого нет расчета Яункалачу держать такого. У Лизы мальчишка уже подрастает, пройдет пять лет — вот и пастух. А когда у них будет вторая лошадь и еще две или три коровы — кто может запретить им снять в аренду всю Волчью гору? Беда только с тестем, со старым Зелтынем. Старуха умерла, от Яна не дождешься, чтобы об отце позаботился, шатается где-то у палейцев, говорят, жениться собирается. А старика ведь не прогонишь. Ленивый, как чурбан. Даже хвороста нарубить не хочет; к тому же почти ослеп. Одна надежда — волостной старшина Яункалач родней приходится, неужели не сумеет запихать старика в богадельню? Тогда — гора с плеч, можно было бы развернуться…
Андрей Осис слушал и становился все серьезнее. Опять заиграл оркестр, на елочке повесили новую картонку: «Française»[85]. Дивайцы увлеченно танцевали; на них костюмы из покупной материи, повязаны яркие галстуки, редкая девушка была без шляпки. Скачками двигалась культура. А Мартынь Упит собирается свести святошу Зелтыня в богадельню, как некогда Лиена старого Паклю-Берзиня. Только одно это место в жизни осталось нетронутым, как омут в Дивае, где кружатся щепки и сухие листья, пока не придет зима и они не вмерзнут в лед.
Мимо буфета, далеко в обход, шел коренастый парень. На курчавой копне волос — черная шляпа, на плечи накинуто летнее пальто из фабричной материи, ботинки начищены до блеска — по всему безошибочно можно определить, что танцы он считает ниже своего достоинства. Голова гордо закинута, нос вздернут. Споткнулся о кочку — ботинок запылился и потерял свой бальный блеск: парень нагнулся и вытер краем брюк пыль. С трудом можно было узнать в нем Анса Вецкалача. Поравнявшись, остановился и, подавшись корпусом вперед, приподнял шляпу. Андрей снял свою. Когда церемония была закопчена, Анс молча зашагал дальше, Мартынь Упит локтем подтолкнул Андрея и подмигнул.
— Миллионщик!
— А что, разве они в конце концов получили свои миллионы? — спросил Андрей.
— Пока еще нет, но, говорят, этой осенью получат непременно.
Он не успел рассказать, как печально теперь идет жизнь старого Вецкалача под началом бривиньской Юлы и сына. Подошла Лиза с мальчуганом на руках. И ее трудно было узнать — похудела, нос стал тоньше и заострился, платочек, как у русских баб, повязан вокруг головы узелком под скрученными на затылке волосами. Как быстро они стареют — эти будущие испольщицы и арендаторши!
— У тебя рассказов хватит до утра, — сказала Лиза, косясь на четыре пустые бутылки. — Скоро домой пригонят скот — кто без меня доить будет?
В ее голосе чувствовалось что-то острое, режущее, как трехгранная осока, когда ее пропускают сквозь пальцы. Мартынь Упит поспешно встал, хотя видно было, что с удовольствием посидел бы еще. Андрей достал из кармана «царскую» конфетку. Мальчуган схватил ее, словно зверек; Лиза едва успела снять бумажку, а то целиком засунул бы в рот.
— Да, да, идем, идем! — Мартынь Упит беспокойно затоптался на месте. Глаза его бегали по танцующим, потом перескочили на буфет. — Нужно только Яна Земжана позвать.
— Разве Земжан сам дороги не знает! — отозвалась Лиза. Теперь в ее голосе было нечто от жгучей крапивы.
— Ну, ну, — ответил Мартынь, встряхивая копной своих густых волос, — вместе пришли, некрасиво так уходить.
И поплелся к буфету. Лиза с мальчиком на руках последовала за ним.
Андрей пошел кругом, обходя толпу. У самого обрыва качался на непослушных ногах бривиньский Ешка, расплескивая жидкость из зажатого в руке стакана; другой рукой придерживал за шиворот Екаба из Межавилков. Он оброс черной щетинистой бородой, голос стал еще грубее. Невдалеке стояла его бедная жена — в девушках она, наверное, была очень красивой, теперь стала медлительной, неуклюжей и равнодушной, словно откормленная утка. За руку держала маленькую, нарядную, как ангелочек, девочку.
— Она не должна работать, — гудел будто из бочки бривиньский Ешка, указывая стаканом через плечо. — Абсолютно не должна! Ты только сиди в комнате, я ей говорю, и присматривай за ребенком. Так я ей говорю — а, что?
Он смеялся, поблескивая белыми зубами. Екаб Межавилк пробормотал в ответ: «Да, да», — и покосился в сторону, высматривая, куда бы улизнуть. Толстая молодка вздохнула и, осторожно ведя девочку между песчаных кочек, уплыла прочь.
Какой-то мужчина навалился локтями на буфет. С первого же взгляда он показался Андрею Осису знакомым, но добраться к нему так и не удалось. День был жаркий, песчаная дорожка пылила; после каждого танца к буфету устремлялась волна людей, желавших освежиться. Это было не легко. Пожилые мужчины, не интересовавшиеся танцами, и денежные безбилетники все время держали буфетчика в крепкой осаде. Все же Андрей узнал человека — это ведь Карл Зарен. Нетрудно было понять, что он тут уже давно, может быть с самого начала праздника, и что стоять ему уже не под силу. На нем не было ни крахмальной манишки, ни воротничка. Желтый шелковый платок скрутился жгутом, открыв на груди плохо простиранную засиненную рубашку с двумя самодельными завязками, какие носили только старухи из богадельни. Опустившимся и неопрятным выглядел загулявший Карл Зарен, прежде такой изящный, тихий и скромный. Когда-то он был большим книжником, играл на скрипке, в училище у Саулита заполнил толстую тетрадь стихами собственного сочинения, а однажды так умело нарисовал колоду карт, что нельзя было отличить от настоящих. У Андрея Осиса заныло сердце, когда он увидел его таким.