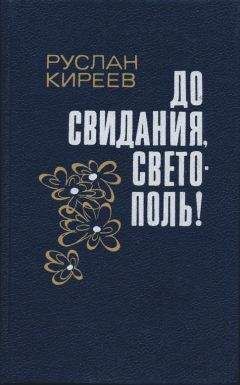— Но ребёнку нужен отец, — не очень твёрдо проговорила Римма. Случись у неё такое двадцать лет назад, мать на порог не пустила бы. «Где нагуляла, туда и иди».
— А что отец? Чем Васька ему не отец? Василий Егорович? Да он с ним больше, чем с девками своими, возится. От тех нос воротил. Сына ему, видишь ли, давай, сына. Вот пожалуйста — сын.
А она бы? — подумала о себе Римма. Если б с её Наташкой приключилось подобное? Не с Наташей, уличила она себя, а с Наташкой — так она никогда ещё не звала дочь, даже мысленно. Приняла б, конечно, но разве так? Смирив себя, переступив через себя и, хотя по-прежнему высоко или выше ещё держала б голову, втайне страдала бы — и за дочь, и за себя, и за ненужного этого ребёнка.
— Суд в десять, — сказала она. — Если ваша дочь решит дать показания, в половине десятого она должна быть у меня. Моя фамилия Федуличева.
У дома ей встретилась Оксана. Неспешно шествовала она в лёгком брючном костюме: на черном фоне — острые белые зигзаги. Эффектно, но в общем‑то наряд для женщин, у которых есть основания скрывать ноги.
В упор глядела она на Римму — та чувствовала это, хотя и не смотрела на неё.
— Вы опоздали, — услышала она.
Римма придержала шаг.
— В каком смысле?
По накрашенным губам скользнула улыбочка.
— Ваш муж только что уехал. — Удивительно, что она не сказала «бывший муж» — это бы так соответствовало её тону.
— Я видела его, — ответила Римма и прошла мимо.
Мать в кухне чистила морковку — она грызла её регулярно, дважды в день, чтобы сохранить зубы, которые и без того были в идеальном состоянии.
— Наташа дома? — спросила Римма, бегло просматривая лежащую на холодильнике почту. Было два письма — оба из колонии. Чаще её подопечные писали на адрес консультации, но некоторые, неведомым для неё образом разузнав адрес, слали сюда.
— Пока дома, — выдержав паузу, многозначительно отвечала мать. — Будешь обедать? Или сыта?
Значит, о ресторане известно уже — Наташа проболталась. Не принимала она всерьёз своей грозной бабушки со всеми её нравоучениями, дисциплиной и моральными устоями — брякала что в голову взбредёт. А разве могла эта суровая старуха, ни разу в жизни не нарушившая своих железных правил, простить дочери этакую беспринципность? Пойти обедать, и с кем — с человеком, который так коварно обошёлся с нею!
— Сыта, — положив письма, ответила Римма.
В их комнате творилось бог знает что. Настежь распахнутый шкаф, какие‑то свёртки на столе, смятая бумага валяется, на стульях развешаны платья. Прокатавшись с отцом по магазинам, Наташа навёрстывала время: как и Римме, к шести ей было (по–видимому). Оксана — та ушла уже, теперь их очередь. Римма мысленно усмехнулась. Не хватало ещё, чтобы мать с дочерью на свидание на пару ходили.
Наташа, в трусиках и лифчике, бросилась показывать подарки Павла. Мохнатый белый свитер под горло, босоножки и—самое главное! — замшевая сумка на ремне. Из‑за неё‑то и задержались — очередища была.
— Ну как?
Римма слабо улыбнулась:
— Хорошо.
Неужто и она будет вот так торопиться сейчас, гадать, что идёт ей, а что нет?
Наташа расценила эту улыбку по–своему. Озабоченносочувственным сделалось её лицо.
— Как твои дела?
— Хорошо.
— Ты видела эту девушку?
Но не это волновало её сейчас — другое: в каком виде предстанет через полчаса перед своим мальчиком.
— Видела.
— И что? — Наташа, не глядя, поглаживала сумку. — Красивая?
Римма села, с усилием стала снимать туфли.
— У неё сын, — сказала она.
Рука, что ласкала сумку, медленно опустилась.
Чей?
— Иванюка, — ответила Римма. — Того самого…
— Я помню, — перебила Наташа. — Она даст показания?
— Не знаю. — И вдруг спросила неожиданно для себя: — Ты бы дала?
Дочь задумалась. И хотя взгляд её не изменил направления, уже не на Римму был он устремлен — сквозь неё. Что‑то видел он там, недоступное матери, сравнивал, подставлял другого человека на место Качманова. Или Иванюка? — тревожно мелькнуло у Риммы.
— Но ведь это ужасно стыдно. Все смотрят на тебя, а ты должна говорить.
— Стыдно, — согласилась Римма.
Взгляд вернулся.
— Я бы дала.
Мать кивнула. Конечно б, дала — она не сомневалась в этом.
— Мне кажется, они явятся в понедельник.
— Почему — они? — не поняла Наташа.
— С матерью. Они вдвоём все.
— А отец? У этой девушки есть отец? — С небрежностью — эка важность, живёт ли отец с семьёй!
— Есть, — коротко ответила Римма.
Наташа взяла сумку и, далеко отодвинув её голыми руками, полюбовалась ею.
— Хороша, а? Тринадцать рэ. Расколола я папашу. Босоножки, свитер. Свитер как тебе?
«Расколола»… А что творилось с ней, когда прошлым летом Павел попал в автомобильную катастрофу! Двое суток на волоске висела его жизнь… В Крутинск, в больницу, Римма тайком от дочери звонила из консультации, а вечером нашла На полу телефонную квитанцию. Наташа обронила — потемневшая, осунувшаяся. Вслух же почти не говорили о нем…
— Я надену твои туфли, — объявила дочь, и в тот же миг они оказались на столе. Замшевые, на массивном каблуке; в них‑то Римма и собиралась идти сегодня. — Пойдут к этой сумке? — Отступив на шаг, окинула их критическим взглядом. — Пойдут! Они ко всему пойдут. Ты умничка, что купила их.
— В общем‑то, я купила их себе, — сказала Римма. Пора было переодеваться, но она медлила.
— Я не намерена экспроприировать их у тебя, махен! Вечером верну в целости и сохранности. Ты ведь никуда не собиралась сегодня.
Не вопрос это был — констатация факта, потому и ответа не требовалось, однако молчание матери насторожило Наташу.
— Махен? — произнесла она.
— Что?
— Ты идёшь куда‑то? — Строгий и пытливый взгляд предупреждал, как ребёнка: не лгать.
Римма грустно смотрела на дочь. Она вдруг почувствовала, что очень устала сегодня.
— Во сколько? — сурово спросила Наташа.
Отпираться было невозможно — так пристально вглядывались в неё отливающие золотом глаза дочери.
— В шесть, — сказала Римма.
Наташа глянула на часы и ужаснулась. Чуть ли не силой подняла мать, заставила раздеться, выбросила из шкафа одно платье, другое, но оба не приглянулись ей, и она, голая, в раздумье замерла у распахнутой дверцы.
— Ты не в театр?
Римма улыбалась её неуклюжей деликатности.
— Нет.
Дочь снова завозилась в шкафу, а Римма, точно ребёнок, дисциплинированно стояла посреди комнаты. На своё тело не смотрела, но видела Наташино, и этого было достаточно…
— Ты‑то не опоздаешь?
— Обо мне не беспокойся. Вот! — Она извлекла ту самую блузку с тесёмочным бантом, которая сегодня привиделась Римме в её нескромном сне. — Ты чего улыбаешься? — подозрительно спросила Наташа.
— Я? — спохватилась Римма. — Я не улыбаюсь.
— Наденешь её и зеленую юбку. Нет, вот эту. — Все беспорядочно летело на стол и тахту. — Потом уберу.
Римма запротестовала:
— Она мне коротка.
— Ты с ума сошла! У тебя такие ноги!
Римма устало усмехнулась.
— В моем возрасте…
— Какой у тебя возраст! — Наташа гневно вскинула глаза. — У тебя прекрасный возраст. Смотри, как ты выглядишь! — И, схватив мать за руку, повернула её лицом к зеркалу. — Ну! Видишь? Видишь или не видишь?
Бесцеремонно крутила её, поправляла что‑то, окидывала, отступив на шаг, взглядом и, если не нравилось, расторопно меняла, — что на что, сообразить Римма не успевала. Потом, взяв за подбородок, приблизила к себе её лицо, другой рукой быстро стянула очки. Все размазалось и потускнело перед выпуклыми глазами Риммы.
— Ты что? — испугалась она. Близоруко моргая, силилась разглядеть, какую новую манипуляцию собирается совершить над ней дочь. Что‑то тёмное, узкое мелькнуло в её руках — Римма невольно подалась назад.
— Не шевелись! — приказала Наташа, и она замерла. Карандашом оказался черный предмет. Послюнявив его, Наташа бережно коснулась века.
— Зачем? — прошептала Римма.
— Так надо!
И, отступив на шаг, полюбовалась ею.
— Очки, — жалобно напомнила Римма.
— Пардон! — и очки оказались на месте.
Римма недоверчиво оглядела себя в зеркало. Кажется, и впрямь получилось недурно. Молодая, высокая, со вкусом одетая женщина. Вот только очки… В эту минуту она пожалела, что не воспользовалась в своё время услугами клиента–оптика.
Сумку взяла. Наташа смотрела на неё с гордым видом — как мать смотрит на повзрослевшую дочь, которая впервые в жизни отправляется на свидание. Потом метнулась к ней, выхватила сумку, расстегнула, перевернула над столом и, вытряхнув, стала аккуратно и проворно укладывать все в свою новую замшевую — подарок Павла.
— А ты?
Но дочь не слушала. Все в том же полуголом виде проводила до двери — мимо остолбеневшей бабушки, которая даже морковку перестала грызть, — чмокнула, поправила что‑то у шеи, прошептала восторженно: