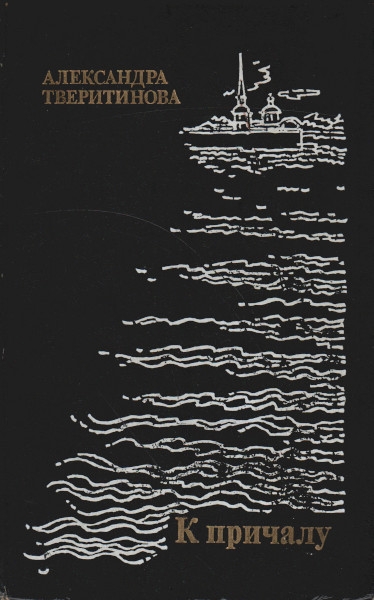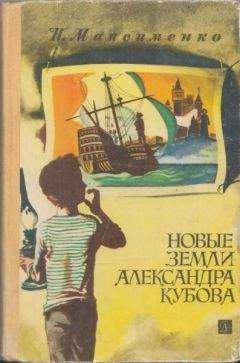месье Дюма тоже.
Распахнув двери конторы, я кинулась к доске. Тасин ключ висел! Вот досада! Я подошла к дверям месье Дюма и заглянула в узорчатый витраж. В комнате не было никого.
— Месье Дюма-а!.. — закричала я. — Месье Дюма! Где вы?! Я нашла работу! Месье Дюма‑а!..
Из вестибюля выскочил Роже.
— Тсс! Ты что тут кричишь?! — сердито шептал он. — Месье Дюма спит! У него мигрень... Что у тебя там стряслось?
— Роже, — зашептала я тоже. — Роже, я нашла работу!
— Гм.
Он переступил порог и уселся за письменный стол месье Дюма, откинулся важно к спинке кресла. Засученные по локоть рукава ситцевой рубахи открывали волосатые, с вздутыми венами руки.
— А что ты будешь делать? — Роже говорил мне «ты» и называл по имени. К Тасе у него было уважения больше. Тасю Роже называл «мадмазель» и говорил ей «вы».
— Анализы буду делать, Роже, медицинские анализы. Бактериологические, — я говорила срывающимся шепотом. — Микробы разные определять.
— Гм. Работа довольно грязная.
— Ну нет, Роже. Совсем даже не грязная. Наоборот — интересная.
— А сколько платить за это будут?
— Не знаю пока.
— Как это — не знаешь?
— Ну, неудобно же было спрашивать, как вы не понимаете, Роже?
Я работала в лаборатории и была счастлива. Я писала бабушке длинные письма. Она не должна мне больше посылать ничего. Я теперь сама верну долг месье Дюма. Я буду аккуратно платить за комнату.
Я спешила на работу, как на праздник. Одним духом взбежав на последний этаж, влетала запыхавшись в приемную, где за барьером обычно уже сидела мадам Ламбер. Как ни рано я прибегала, мадам Ламбер всегда уже была на месте. Пристроив зеркальце на свой «Ундервуд», готовилась к рабочему дню.
На ходу я здоровалась с ней, она с улыбкой мне отвечала, и каждый раз мне почему-то вспоминалось, как мадам Ламбер улыбнулась мне в тот день, когда я пришла наниматься. И я думала: как это много — добрая улыбка. Мадам Ламбер мне нравилась. И шеф, месье Мартэн, нравился. Немножко дотошный, но это ничего. И месье Дюбуа, химик, тоже нравился. Он работал рядом со мной, через стеклянную перегородку.
Но больше всех мне нравилась уборщица Мадлен. Мадлен я просто полюбила, с первого же дня мы стали друзьями. Потихоньку от всех Мадлен помогала мне: показывала, как раскладывать предметные стекла, чтоб потом их не перепутать, расставлять пробирки в штативах. Когда Мадлен приходила в бактериологическую убирать столы или мыть пробирки, я радовалась.
Но когда я усаживалась за микроскоп, мне уже не нужно было никого. Я впивалась в окуляры и уходила в мир, в котором происходили грандиозные битвы, внезапные восстания, стремительные нападения — с победами и поражениями... Вот окружили, вот захватили, ведут осаду, толпами карабкаются по каким-то склонам. Тут, в мире микробов, были сильные и слабые, смелые и трусливые — совсем, как в мире людей...
Я научилась отлично отсевать колонии патогенных, вредных микробов, и Мартэн мне доверял, не глядя подписывал мои листочки, которые потом перепечатывала мадам Ламбер.
После работы я ехала в Латинский квартал и там рассказывала взахлеб о своих делах. «Жано, если б ты только знал!» — и Жано посматривал на меня саркастически.
Тася тревожилась: «Маринка, как же факультет? Тебе же учиться надо!..»
«Пока не буду», — говорила я. Я отбрасывала мысли об учебе. Жано сначала сердился: «Слабоволие... Бесхарактерность...» — потом стал уговаривать, чтобы я не бросала Сорбонну, обещал что-нибудь придумать.
Уговаривал Рене, просила «не делать этой глупости» Жозе. Я не хотела и слушать. Я знала, что с Сорбонной расстаюсь навсегда. Бабушке трудно.
Мои друзья сдавали экзамены. Я не хотела думать об этом.
* * *
В тот вечер Тася уезжала в Россию. В СССР. Поезд уходил поздно. После работы я поехала на Монпарнас и купила у Боманна красных гвоздик, Тасиных любимых. Купила на все оставшиеся до получки франки. Продавщица искусно переложила гвоздики нежными веточками аспарагуса и, укутав в шелковистую бумагу, приклеила серебряный ярлычок: «Цветы. Боманн. Бульвар Монпарнас». За этим ярлычком я и мчалась на Монпарнас. Можно было те же гвоздики купить в два раза дешевле у любой цветочницы на углу. Но это не были бы «гвоздики от Боманна».
По пути на Восточный вокзал я тряслась от мысли, что поезд уже ушел, что я опоздала, что Таси уже нет.
Покружив по лестницам подземки, я вынырнула наконец на вокзал, прижимая к груди гвоздики, и долго не могла отдышаться.
Вокзал гудел. Пробежав глазами по светящимся номерам платформ, я ринулась отчаянно за решетку и понеслась что есть Духу вдоль длинного состава. На бегу поглядывала на вагоны, но надписи «Париж — Негорелое» ни на одном из них не было.
Лавируя среди багажных тележек, шарахаясь в сторону от встречных, я обгоняла буфеты на колесах, не обращая внимания на окрики буфетчиков, которые торопились подкатить свои товары к окнам вагонов и тоже бежали, беспрерывно звоня и сигналя.
Наконец я увидела на последнем вагоне черные буквы по белой эмали — «Париж — Негорелое», сделала последний рывок и, конечно, угодила под ноги носильщику. Больно стукнувшись коленкой об огромный чемодан, я помчалась дальше.
— Обалделая! — ругнулся мне вдогонку носильщик.
Теперь я увидела и Тасю. Она стояла на подножке вагона в своем «пахнущем травой» зеленом платье и вглядывалась в толпу — должно быть, искала меня.
— Тася! — крикнула я. — Я здесь!
Тася соскочила с подножки. Мы обнялись.
— Ты что так запыхалась?
— Бежала. Думала, ты уже уехала.
— А часы на что? Маринка, Маринка...
— Еще целых десять минут до отхода, — сказал кто-то за моей спиной.
Я обернулась. На меня смотрел, улыбаясь, молодой человек с зажатой в кулаке трубкой.
— Вадим Андреевич Костров, — сказала Тася.
— Марина.
— Так вот какая вы... Марина. Морская.
— И Степан Гаврилович, — сказала Тася и повернула меня за плечи.
— Девятников, — коротко произнес хмурый Степан Гаврилович, посмотрел на меня исподлобья и