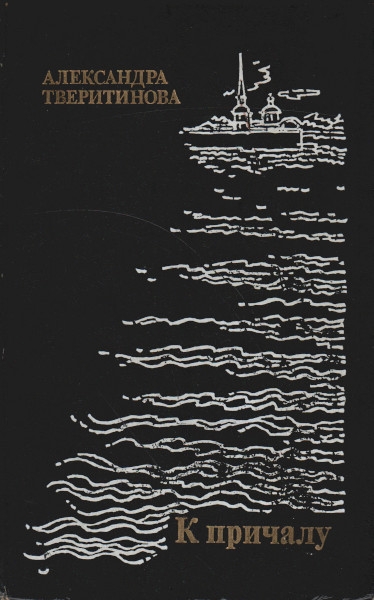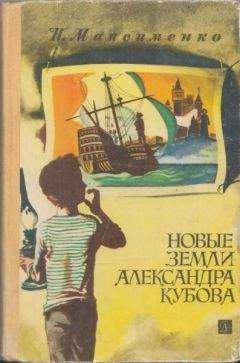с потухшими фонтанами, древние сады за высокими, увитыми плющом стенами. Глухие заборы, из-за которых вырываются зеленые ветки. Париж...
Идем молча, немножко ошалелые или усталые, вернее и то и другое. Франсуаз отправилась домой. Мы проводили ее до остановки автобуса и отправились, как всегда, побродить по набережным Сены. Идем с Жано и Луи, взявшись за руки. Сзади Жозефин старается угомонить неугомонного бретонца.
— За кого я спокоен, так это за Франсуаз, — бормочет Рене, — не полезет на баррикады. Не по-ле-зет! Слышишь, старик? Луи, это я тебе: не полезет Франс на бар-ри-кады! Можешь спать спокойно, старина, и вообще оставь ты бедняжку Франсуаз и смотри, как спокойно она будет опускаться до растительного существования.
Луи медленно поводит плечом, покачивая головой. Жано смеется. Мне показалось, Луи обидел смех Жано. Я не оборачиваюсь. Я боюсь реплики Рене, я только слышу, как Жозефин просит его помолчать немножко. Наш бретонец мыслит обычно вслух, а сегодня, после «У монаха-расстриги», больше, чем всегда, склонен на словах преувеличивать все свои переживания, и я надеюсь только, что Жозе удастся наконец его притормозить: бывает, под сосредоточенным взглядом Жозе бретонец теряется и внезапно серьезнеет, даже если это после «У монаха-расстриги».
Мы постояли на мосту. Только что зажегшиеся огни зажили в воде второй жизнью. Поднялся ветер, и Сена покрылась мелкой зыбью. Моросило. Стало неуютно. Рене предложил пойти к Антуану — посмотреть его новый пейзаж, и мы отправились в район Монпарнаса.
Вспыхнули фонари — все сразу. Мы свернули в боковую улицу, одну из улиц в районе Монпарнаса, что испокон веков изобилуют мастерскими художников. Длинная и узкая, с прокопченными насквозь домами и открытыми наружу резными ставнями. Мы шли мимо мясной лавки, в окне которой каменела лошадиная голова, убранная бумажными розами, и мимо овощной лавки с дремлющей на тротуаре кривоногой таксой, привязанной на веревочке к дверной ручке, мимо табурета с пачкой последнего выпуска «Пари суар». На пачке камешек, рядом блюдце с мелочью. У витрины антикварной лавки мы постояли, поглядели на бронзовые канделябры какого-то Людовика, теперь уже не помню какого, и древнее распятие, тоже кому-то когда-то принадлежавшее, и гобеленовый коврик, и медальон с локоном, не знаю чьим.
На двери цветочной лавки было написано мелом, чьи сегодня именины, а на углу стояла извечная тележка с горой наваленных гвоздик и пармских фиалок — изящные бутоньерки в сочно-зеленом кружеве аспарагуса, и у тележки усатая цветочница, тоже извечная, облаченная в широченную черную сатиновую юбку. Навалясь пышной грудью на борт своей двуколки, она, едва завидев нас, протянула навстречу нашим парням обе руки — в каждой по бутоньерке — и во всю силу своей изношенно-хрипучей глотки заорала, что они сделают преступление, если вздумают оставить без цветов таких прелестных девочек, и Жано с Луи остановились и стали шарить по своим карманам, и Рене тоже, и, собрав оставшиеся после «У монаха-расстриги» су, они купили нам с Жозе пармских фиалок, а последние сантимы Жано бросил в лежавший на тротуаре раскрытый футляр от скрипки. Старик скрипач, пиликавший на середине мостовой «Париж останется Парижем», поблагодарил его глазами. С верхних этажей старику швыряли завернутые в бумажку медяки, и ребята собирали их и клали ему в футляр.
— Чтобы завоевать право не умирать с голоду — надо лезть на бар-ри-ка-ды! — говорит Рене громко.
— Так думают моя консьержка, и булочница, и присные с ними, — говорит Луи.
— И подавляющее большинство дураков, так?
— Или дураки, образующие большинство, если хочешь.
— Если бы это «образующее большинство» полезло бы на бар-ри-кады... — бормочет Рене.
— Потому и дураки, что не лезут? — спрашиваю я.
— Не место безразличию и терпимости, когда у тебя на глазах творится зло, — говорит вдруг серьезно Рене.
Я скосилась на Жано.
Жано молчал.
— Наверно, всё-таки, единственно важное — это жить в согласии со своей совестью, — произносит Жозефин.
— В ладах я со своей совестью или нет, — говорит Луи, — но если коммунизму обеспечен успех — это отобьет у меня всякий вкус к жизни.
— А у меня наоборот — если он погибнет, — говорит Жано.
— Спи спокойно, человеческое существо до такой степени податливо, что оно быстро становится тем, во что его убедят превратиться. Так было, и так есть.
— Как было и как есть — мы знаем. Но будущее может быть не продолжением и не повторением прошлого, — говорит Жано.
Мне, как всегда, трудно уследить за мыслью Жано, извилистой и, однако, прямой. Всё-таки я стараюсь.
— «Жить», старик, это еще ничего не значит. Существует мир — в нем есть люди. Вот так, дружище.
— Жано, а может коммунист жить «по-коммунистически» в буржуазном обществе? — спрашивает Жозефин.
— Да, строя баррикады.
— Бар-ри-кады! Черт... да здравствует Франция! — Это — Рене.
Жано обернулся:
— Пьян, старик?
— Перехватил парень, — сказал Луи, вдруг подобревший.
— Я человек чувств.
— Я тоже, — говорит ему Луи, обернувшись.
— Благороднейших чувств.
— Никто в этом не сомневается.
— Я человек чувств. Славные вы ребята в общем, — говорит Рене чуть заплетающимся языком, явно притворяясь, — славные ребята, только чудаковатые, очень философствуете много. Наш аристократ не хочет признавать учения о справедливости. И хорошо делает. Не надо их, теорий всяких о гуманизме, человечности. На что их? Так я говорю, Луи, нет? Учения... уничтожающие индивидуализм. Жить надо в обществе, а не в строю. И свободно думать! Так ты говоришь, нет? Сложно, черт подери. А у меня так всё ясно: люблю Париж — и баста. Люблю жить в нем. И знаешь почему? Марина, знаешь почему?
— Не знаю я. Не приставай.
— Потому что — Жозефин. Потому что в нем живет Жозе. В Париже. На улице Эколь, в отеле «Глобус», на четвертом этаже. Люблю. Люблю, и точка. И да здравствует Париж, столица души моей!
Рене орал на всю улицу, но, к счастью, был тот час, когда люди, вернувшись домой с работы, обедали, и мы были почти одни. Редкие прохожие оборачивались и шли дальше. Такой уж он, этот Париж, — хоть на голове ходи в нем, никто тебе ничего не скажет.
— Марина, ты