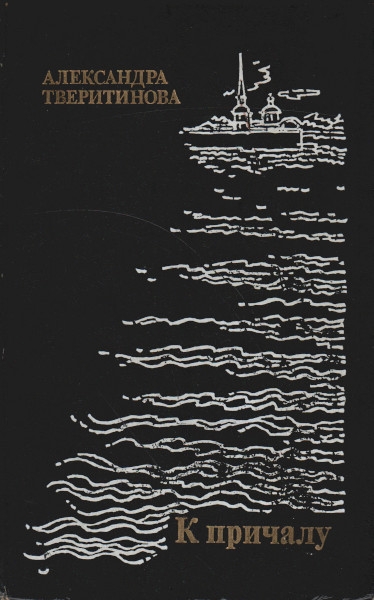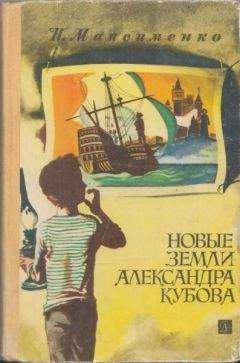одним духом и начал снова рисовать.
Рисовал и вырывал листки, отправляя их в корзину.
И пил.
...Было еще не поздно, когда мы с Жано вышли на площадь Обсерватории. Еще на бульваре Монпарнас Луи вскочил в автобус и отправился домой. Рене пошел провожать Жозефин на улицу Эколь.
— Марина, знаешь что, поедем в Народный дом, еще ведь рано. Не понравится — уйдем. Поедем?
Я сказала «нет», хотя сразу поняла, что поеду. Вообще-то надо бы домой, можно бы еще поработать сегодня. Там их груда целая, конвертов этих. Правда, за комнату заплатила, с месье Дюма — в расчете, а вот в университет внести — нету. Пусть. Думать буду позже, потом, а пока — весело, вот и всё.
Жано открыл тяжелую дверь, и мы вошли в ярко освещенный вестибюль Народного дома. В большом зале собраний — митинг антифашистской молодежи. Жано, пропуская меня. вперед, спокойно сказал: «Проходи!» — как если бы оба мы после трудового дня вернулись к себе домой.
В зале было много людей: молодые рабочие, студенты, студентки. Я вглядывалась в лица. Многих знала по Латинскому кварталу, изо дня в день встречала в «Кафе де ля Сорбонн», на бульваре Сен-Мишель. Дым стлался под потолком пластами, казалось, люстра плавает в густо-сизом облаке. Дымили в зале, и дымили на трибуне и на балконах, и лица смутно просвечивали, как блики. На трибуне увидела художников Вламенка и Люрса, и режиссера Жуве, и Кассу, и Андре Мальро, и чудесного поэта Десноса.
В зале гул, как в развороченном пчелином улье. На трибуне сменяются ораторы. Говорят о разном и вместе с тем об одном: нельзя прожить жизнь на одной земле с фашистами.
Я плохо слушала. Мне трудно было осмыслить, понять, где вчерашний день, и где сегодняшний, и где завтрашний, о котором шла речь. Я немножко устала, и на душе было и печально, и как-то хорошо, и немножко растерянно. Я никогда не была на митингах. Новый для меня мир, мне не совсем понятный. Вспомнилось почему-то, как девочкой я слушала впервые открывшееся передо мной море, далекое наше, Черное.
Жано сидел, попыхивая сигаретой. Я глядела на него... Мне казалось, глаза Жано живут своей жизнью.
В перерыве к Жано подошел парень, студент Горного института:
— Ты, кажется, начал писать? Так мы тебя мобилизуем...
— Валяй, старик.
Митинг кончился. Мы с Жано стали пробиваться к выходу.
...Мы молодая Франция,
Грядущего сыны...
Песня юности и революции понеслась нам вслед, как ветер.
Мне хотелось домой, на тихую улочку Веронезе, рассказать Тасе про весь мой день. А если не рассказать, то просто тихо посидеть в комнате у Таси. Помолчать с Тасей.
Мы хоть и разные, а долго без Таси не могу. Удивительно мы всё-таки разные. Тася умеет логически мыслить; между прочим, у нее это здорово получается, а у меня — нет. И еще у Таси рассудок преобладает над чувством, а у меня наоборот — чувство во мне сильнее разума. До того он силен у Таси, этот рассудок, что как-то раз, когда мы спорили, теперь уже не помню о чем, о чувстве привязанности, кажется, или о чем-то еще в этом роде, Жано не выдержал, выпалил: «Тася, ты нас скоро заморозишь!.. Ты не умеешь расточать себя, Тася...»
Всё-таки мы любим ее. Она особенная. Как-то раз нахлынуло на меня все сразу: и размолвка с Жано, и безденежье, и я совсем было растерялась и запуталась в своих чувствах, разных и сложных. Увидела! Всё-таки увидела. Улыбнулась. Встала рядом... Тася.
Было уже за полночь, когда, взбежав на последний этаж и не заходя к себе, я постучалась тихонько к Тасе. Она еще не спала. Просматривала лекции.
— Что нового? — спросила, не отрываясь от страницы.
— Всё! Тася, каждый день моя жизнь начинается сначала!
— Ну, значит, ничего нового: такой же день, как все другие.
Я поглубже забираюсь в единственное кресло, такое же, как и в моей комнате, громоздкое, старомодное, изъеденное молью. Я знаю все его бугры, и пятна, и потертые места, и даже пропитавший его запах табачного дыма.
Старое кресло располагает к излияниям. Но Тася не любит излияний.
— Ну так ка́к?
Тася поднимает на меня глаза.
— Завтра — опять новый день?!
Смотрит на меня, на букетик пармских фиалок на моих коленях, смотрит спокойно, но в уголках ее глаз — улыбка.
Тасино умение разгадать душевный климат человека.
Лекции кончились. Жозефин и Рене собирают свои записи и складывают в кожаные папки. Жозефин посматривает на мои беспорядочно исчерканные листки, и на лице у нее не то укор, не то озабоченность:
— Записывала?
— Не-е. А ну ее к чертям, химию эту!
Я не успевала записывать за профессором. Я не любила химию. Всегда после лекции по химии настроение у меня было испорчено на весь день.
— Ладно, — сказал Рене, — возьмешь мои. — Он закрыл папку и встал. — Пошли. Там Жано уже бушует, наверно. — Он потянул за руку Жозефин, поднял ее. Мы стали протискиваться к выходу.
Мы торопились на площадь Пантеон. Сбор был назначен около юридического факультета. Пойдем в Ситэ-Университэр, в студенческий городок, — там из столовой несправедливо уволили двух студентов-подавальщиков.
Жано стоял посреди тротуара и, широко растопырив свои длинные руки, останавливал выходивших из Сорбонны студентов; пропуская одних, задерживал других: «Стоп! В Ситэ... Все, все в Ситэ!.. Уволили Пелисье и Дарбуа!.. Студенты без работы... Восстановить парней!.. Кто, как не мы сами...»
— Здоро́во, старик!.. — крикнул ему Рене.
— Кой черт держит вас там дольше всех!
Жано шагнул нам навстречу. Он злился.
— Ты очаровательно сердишься, старина... — сказал Рене, глядя на него с нежностью.
— Ах, оставь! Ступай скорее на медицинский. Волоки их сюда...
— Жозе! — позвал Рене.
— Бежим, Марина!.. — Жозефин схватила мою руку, и мы бросились за Рене.
— Стой! Куда? — Жано вцепился в мой локоть. — Марина, ты не со мной?.. — и вскинул на меня глаза. Глаза громадные, черные, блестящие.