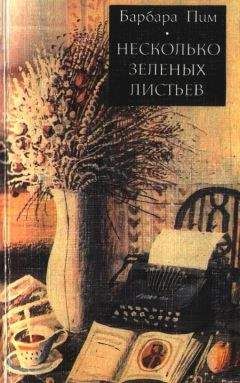— До свидания, товарищ Каанто! — отчетливо и громко произнес Яковлев, — Будьте здоровы. Желаю вам всего хорошего!
— До свидания, товарищ председатель!
Каанто долго тряс руку Яковлеву, не давая отнять ее.
— Приезжайте еще раз. Мы вам покажем самодеятельность. Споем новые песни про нашу счастливую жизнь.
Мы вышли на улицу.
Туман по-прежнему держался за мыс Нунэкмун, скрывая от нас панораму залива Лаврентия и окрестных невысоких, зеленых в эту пору тундровых холмов.
Яковлев огляделся и спросил:
— А где у них тут туалеты?
Я объяснил, что в летнее время нужду справляют где-нибудь поодаль в тундре, за холмом или же за скалами на берегу моря. А зимой туалетом служит ведро, которое держат в спальном помещении, и называется этот сосуд эчульхен.
— Так от него же пахнет!
— Приходится терпеть, — я вспомнил наш потемневший от времени семейный эчульхен, покрытый деревянной крышкой.
Яковлев замолчал и оставался задумчивым, пока мы возвращались в небольшое помещение сельского Совета.
— Так жить нельзя! — громко произнес он, усевшись за стол и оглядев свою свиту. — Советский человек не должен так жить!
Он повторил это несколько раз, видимо потрясенный увиденным.
Обстановку разрядило сообщение Гэмауге:
— Картошка в кителе сварилась, и обед готов!
— В мундире, — машинально поправил его Яковлев.
Мы отправились обедать в школу, где в небольшой кухоньке хлопотала Рультына.
Я было пристроился вместе с журналистами, которые тайком от председателя собирались согреться спиртом, но Яковлев потребовал, чтобы я сел рядом с ним.
На столе стояло сливочное масло, малосольный голец, котлеты из китового мяса и кружки с густо заваренным чаем.
— Что вы скажете? — спросил Яковлев, очищая картофелину от кожуры.
Я молча пожал плечами.
— Я и раньше слышал про ярангу… Думал, жилище как жилище… Раз люди живут, значит, пока можно так жить. Но то, что я сегодня увидел, — потрясло меня! Это первобытное, безо, всяких скидок, жилище! У иного зверя пора лучше, чем чукотская яранга!
— Мы были не в лучшей, — осторожно заметил Валютин.
— Да если даже пол в яранге выложить кафелем, а стены оклеить обоями — все равно яранга останется ярангой! — взорвался Яковлев, — И вы меня не убедите в том, что жилье это достойно человека.
— Но никто не жалуется, — слабо пытался возражать Валютин.
— Благодарите судьбу, что вы председательствуете в районе, где, в основном, живут местные. А они жаловаться не приучены. И вы знаете почему? Да потому что они нашу власть не считают своей. А чего жаловаться чужому дяде, вам, товарищ Валютнн? Из года в год они наблюдают такую картину: приходят одни председатели, один начальники, посидят в райцентре, помитингуют и уедут. На их место приедут другие, так же посидят, порассуждают о преимуществах Советской власти, о прыжке из первобытности а социализм, о котором говорил Каанто, — и тоже уедут. И это продолжается годами… Да как они могут эту власть своей считать, если вы ничего не сделали, чтобы действительно улучшить их жилищные условия! Ведь практически — они бездомные!
— Ну какие же они бездомные, товарищ Яковлев? — возразил Валютин. — Все же у каждой семьи — яранга.
— А я вам говорю, что яранга — это не жилище советского человека, это первобытная хижина. Это все равно что считать пещеры где-нибудь в центре России за нормальную жилплощадь, поскольку в них обитал доисторический человек.
Гэмауге сидел напротив Яковлева и с видимым удовольствием поглощал, как он выразился, «картошку в кителе».
— А что вы скажете? — обратился к нему председатель.
Гэмауге положил недоеденную картофелину, аккуратно вытер рот рукавом камлейки и ответил:
— Конечно, хорошо бы иметь деревянный дом, но мы понимаем, что страна занята послевоенным восстановлением. Мы можем и потерпеть.
— Терпение, конечно, хорошая вещь, — задумчиво произнес Яковлев и вдруг изменившимся голосом продолжил. — Но вот что я вам обещаю, земляки: сделаю все, чтобы правительство помогло чукотскому народу… Нельзя так дальше жить. Хватит пустых разговоров о прыжке из первобытности в социализм… И с пьянством надо кончать!
Мои друзья журналисты при этом вздрогнули, но Яковлев даже не повернул голову в их сторону.
— Здесь прежде всего нужен наш пример, пример коммунистов, пример русского народа… А пока, прямо скажу, мы подаем им дурной пример, очень дурной… Да и водки слишком много возим сюда. Я знакомился с этим вопросом. Тридцать−сорок процентов товарооборота за счет спиртного! И после этого еще смеем утверждать, что царское правительство спаивало чукотский и эскимосский народы…
Осмелев, я встрял в разговор:
— Царское правительство даже запрещало продавать водку местному населению…
— Что вы говорите?! — искренне удивился Яковлев.
— Существовал царский указ, запрещающий продажу вина и других крепких напитков на территории Чукотского полуострова, — продолжал я. — Но так как была опасность получать спиртное из Америки, то наши военные суда из Владивостока постоянно патрулировали вдоль здешних берегов… Так было до лета восемнадцатого года…
— Да-а. А мы все наши беды и упущения валим на царизм, на пережитки прошлого… Выходит, российское правительство по-своему заботилось о местном населении…
После обеда предполагалось плыть обратно в залив Лаврентия, но погода за то время не улучшилась, наоборот, ветер усилился, и туман настолько сгустился, что сырость отчетливо ощущалась, открытым лицом.
— Ну, что, капитан, поплывем назад? — дружеским и бодрым топом обратился ко мне Яковлев.
— Ну уж нет! — решительно ответил я. — Мы и так едва добрались. На вельботе нам до Лаврентия не доплыть.
— Что же тогда будем делать? — вопрос был адресован Валютину.
— На всякий случай я вызвал по рации катер из Пинакуля.
В небольшом местечке Пинакуль, как раз напротив районного центра, на длинной косе был построен зверокомбинат, который служил для окрестных колхозов как бы машинно-тракторной станцией. В мастерских зверокомбината ремонтировали промысловые суда, вельботы, двигатели и другую технику.
Катер мы ждали до вечера, а потом плыли на нем четыре часа до районного центра. В кубрике было так тесно и душно, что я предпочел мокнуть под дождем и солеными брызгами, укрывшись за ходовой рубкой.
Я думал над словами Яковлева, его замечаниями и дивился тому, что он говорил. Это было необычно. Он видел и замечал то, от чего мы стыдливо или равнодушно отводили глаза, умалчивали, принимали желаемое за действительность. Причем мы простодушно полагали, что такое поведение как раз и устраивает большое начальство, газеты и даже до некоторой степени художественную литературу. Тогдашнее мое весьма кислое настроение объяснялось не только печальной вестью о смерти матери, но скудостью свидетельств новой, счастливой жизни, чтобы о них можно было писать в книгах…
О чем же тогда писать? Ведь не о том же, как время от времени на многие дни запивает хороший охотник Каанто, как он доволен своей жалкой жизнью и верит, что так и должно быть, согласно указаниям сверху. Я знал, что и Гэмауге не прочь приложиться к бутылке, и вероятнее всего, он это сделал сразу же, как только наш катер отчалил от берега.
Что же будет с нашим народом, с нашими селами при такой жизни?
Происходило что-то непонятное, странное. Казалось, у людей иссяк интерес к собственной жизни, и они только и ждали, что будет сказано и указано сверху.
В районной газете «Утро коммунизма» перестали давать страницы на чукотском и эскимосском языках, и местный редактор уверял меня, что это сделано для того, чтобы побудить эскимосов и чукчей лучше изучать русский язык.
Но больше всего удручало повсеместное пьянство. И это называлось «отдыхать». Когда я увидел своего старого соученика по Анадырскому педагогическому училищу с перекошенным, помятым лицом и огромным синяком под глазом, он, криво усмехнувшись, сообщил: «Вчера сильно отдохнул…»
Может, это все же явление временное? Кто знает… Пока же и погода, и печаль, и жалкое положение в Нунэкмуне — все оставляло на душе тяжелый осадок.
Маленький катерок с маломощным мотором отважно сражался с волнами, порой вставая почти дыбом, порой зарываясь носом так глубоко, что сердце останавливалось от мысли — вдруг суденышко уже не поднимется, пойдет ко дну, обессиленное неустанной борьбой с огромными, нескончаемыми валами, один за другим настигающими нас под низкими, сырыми тучами.
Мы подошли к берегу районного центра уже под самое утро.
На последних милях катер пошел бойчее, да и ветер вроде начал стихать; в кромешной тьме даже обозначилась утренняя заря.

![Юрий Рытхэу - Люди нашего берега [Рассказы]](https://cdn.my-library.info/books/149502/149502.jpg)