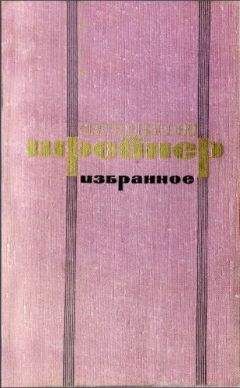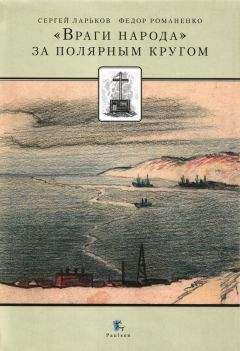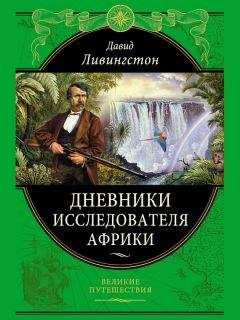Чарли босиком подошел к двери и повернул ключ. Дверь резко распахнулась, едва не задев его по лицу, и, когда ввалились люди в униформах, он отступил назад. Луч карманного фонаря остановился на нем на секунду и затем погас.
В этой группе было четверо полицейских: белый сержант и трое африканцев. Сержант посмотрел на Чарли Паулса и сказал:
— Отлично, jong, waar's die dagga? Где дагга?
Чарли досмотрел на него.
— Здесь нет дагги. Мы приличные люди. Сержант ухмыльнулся и осмотрелся вокруг.
Это был низенький, грузный мужчина с густыми белыми бровями, которые изгибались, когда он говорил, подобно жирным, извивающимся червям, и с маленьким тонким ртом, похожим на бескровную ножевую рану. У него было лицо кирпичного цвета и кирпичной твердости, рассеченное во всех направлениях мелкими морщинками, похожими на линии географической карты, — и на равнинах щек, и на впадинах в уголках рта, и на хребтовине носа. Его глаза были влажны и плоски, как серая гладь озера. Позади него стояли три темнокожих полисмена с унылыми, коровьими лицами.
Сержант снова огляделся и задержался взглядом на Фриде и на испуганных детских лицах. Фрида стянула ворот ночной сорочки. Потом сержант, крякнув, оттолкнул Чарли, подошел к занавеске, заглянул за нее и вернулся на середину комнаты.
Усмехнувшись, он посмотрел на Чарли.
— Приятно сейчас нежиться в постели, а? А я вот мотайся под дождем. — Также усмехнувшись, он оглядел Фриду и спросил Чарли:
— Имя, парень?
— Чарльз Паулс.
Сержант снова крякнул и посмотрел на Фриду своими плоскими, влажными, безрадостными глазами.
— А твое?
Фрида с трудом проглотила ком в горле и, напуганная, назвала свое имя. Сержант ухмыльнулся, показав краешек зубов, ослепительных, как свежевыбеленный борт тротуара.
— Вот как! — сказал он Чарли. — Приличные люди. — Рот его открылся, в глотке у него что-то захлюпало, заклокотало, затарахтело. Он хохотал. Затем закрыл рот, и хохот сразу прекратился, как будто какой-то механизм внутри него внезапно вышел из строя. С издевкой он посмотрел на Фриду.
— Вот шлюха черномазая.
Потом, дернув головой в мокрой фуражке, дал знак своим спутникам следовать за собой и вышел из дому в дождливую тьму. Все трое не говоря ни слова потянулись за ним. Чарли захлопнул за последним дверь.
— Блюстители! Подонки! — огрызнулся он.
Отвернувшись, Фрида укрывала детей. Но он видел, как задергались, задрожали под ночной рубашкой ее плечи. Он подошел к ней, положил свою широкую пятерню ей на плечо и повернул ее к себе. Из припухших сонных глаз по выпуклым скулам скатились две слезы.
Нахмурившись, он спросил:
— Черт возьми, ну чего ты плачешь? Ведь они ничего не сделали.
Но она посмотрела на него сквозь жемчужинки слез, тело ее затряслось от рыданий, и она сдавленным голосом сказала:
— Ты слышал, что сказал этот тип. Он на звал меня шлюхой.
Она вывернулась из-под его руки и, плача, убежала за занавеску. Чарли пошел за ней следом, пораженный, недоумевающий, — она лежала в постели, лицом к стене.
А в стенку настойчиво стучал дождь.
Он присел на край кровати и смотрел на ее вздрагивающую спину. И любовь поразила его, пронзила ему грудь, сдавила горло, и он снова протянул к Фриде свою тяжелую руку и повернул ее на спину.
Он откашлялся и как-то неловко сказал:
— Слушай, мы же поженимся. Я и ты. Мы с тобой. — Он кашлянул, вид у него был растерянный, смущенный. — Ну, довольно плакать, bоkkiе. Ты увидишь. Мы поженимся. Какого черта, в самом деле!
Она проглотила слезы и сказала:
— Ты это только так говоришь.
— Нет. Ей-богу, это правда. Господи, да нам давным-давно надо было пожениться.
Фрида заглянула ему в лицо, зашептала, еще глотая слезы:
— Ты это вправду, малыш Чарли?
— Конечно. А ты как думала?
— В самом деле?
— Ну да.
И тогда он почему-то почувствовал себя чистым, незапятнанным, как странички нового школьного учебника, и это снова повергло его в замешательство. Он хотел больше не думать об этом, подумать о дожде, который хлещет и хлещет на улице, о том, как тепло и сухо в этой маленькой лачуге, с оклеенными бумагой стенами, все еще хранящими тепло от примуса. Примус надо починить, он этим займется. Он в мыслях снова вернулся к Фриде, как ребенок, который потерялся и снова нашел свой дом.
Где-то на улице в шуме дождя громко разговаривали люди, хлопали двери, голоса кричали — раздавались звуки другого мира, от которого они сейчас отделены. И тогда он вдруг встал, потянулся за своими армейскими ботинками и начал обуваться.
— Чарли, — крикнула Фрида, — куда ты?
— Пойду посмотрю, что происходит.
— Не ходи, Чарли! Мало ли что может случиться!
Он ответил, притопнув, чтобы ботинки влезли как следует.
— Не говори так, Фрида. Я только посмотрю. Посмотрю, что они там делают с нашими.
— Чарли, милый.
— Я не впутаюсь в беду, — сказал он. — Ты лежи спокойно и следи за детьми. — Он надел клеенчатый дождевик и улыбнулся. — Увидишь, все будет в порядке.
На улице ярко сияли фары нескольких арестантских машин — они стояли на тесном грязном пустыре локации. Неистово заливались лаем собаки, и фигурки людей двигались во все стороны в сплошном низвергающемся потоке воды. Полиция задержала нескольких африканцев, и они стояли, сбившись в кучу, промокшие, дрожащие от холода, и полицейские сортировали их и распихивали по грузовикам.
Африканец вышел из своей лачуги и подошел к воротам своего двора, чтобы посмотреть, что происходит. На нем плащ, накинутый поверх ночной пижамы. Луч фонарика падает на него и тотчас вокруг него — полиция.
— Где твое удостоверение, кафр?
— В доме, в кармане пиджака.
— Где удостоверение? Ты обязан иметь его при себе.
— Сейчас принесу. Оно дома.
— Так, значит, нет пропуска, да? А ну, пошли!
— Послушайте, это же в доме, сэр.
Но полицейские уже подхватили его и тащат в кучу других африканцев, ожидающих, когда их погрузят в полицейские машины.
Вот целая толпа африканцев и цветных, мужчин и женщин, ждущих под дождем, когда полицейские их усадят и увезут. Многих взяли потому, что у них не оказалось документов, у других документы были не в порядке — отсутствие штампа могло перевернуть всю жизнь. У третьих обнаружили даггу, другие оказали противодействие пришедшей с обыском полиции. И, наконец, последняя группа — их застали за незаконной торговлей спиртным.
Чарли увидел среди них тетушку Мину. Она препиралась с офицером, кричала на него и размахивала мокрым зонтом, от которого он то и дело со смехом пятился назад. Толстая и черная, как дуб, тетушка Мина негодовала:
— Так и знайте, капитан, мне до всего это го, о чем вы говорите, дела нет. Но почему это я должна мокнуть под дождем, вот что я желаю знать?!
Офицер смеялся. Он был самоуверенно весел и находил эту старую толстуху забавной. Ему уже приходилось иметь с ней дело. Он сказал, смеясь:
— Не кипятись, Мина. Мы предоставим тебе отдельную полицейскую машину. Там тебе будет сухо и уютно. А потом отдельную камеру, будешь греться в ней до самого суда.
Тетушка Мина ткнула в него зонтом. Дождь и ветер доконали ее зонт, осталась только ручка, черный лоскут и несколько грозно топорщившихся спиц, напоминающих какое-то небывалое средневековое орудие пыток. Офицер попятился — чего доброго, выколет глаза старуха.
— Не боюсь я вашего суда, полковник. Я семь штрафов уплатила и еще семь могу уплатить. Да! Вы мне только скажите — почему вы это затеяли в такой дождь, а? Объясните. — Она наседала на него, как старый африканский буйвол.
Задержанные смеялись, но нервничали. Офицер покачал головой и со смехом сказал:
— Ну ладно, ладно, Мина.
Дождь все еще лил, но не так сильно. Чарли Паулс стоял в полутьме, на краю зарева автомобильных фар, и наблюдал за происходящим. Дождь струйками стекал с его желтого плаща, капал с кепки. Полицейские пересчитывали задержанных, рассаживали их по машинам, кричали, размахивали фонариками и дубинками.
Вдруг кто-то отрывисто произнес:
— А ты чего здесь стоишь, приятель? Чарли оглянулся и увидел полицейского.
Под сверкающим козырьком форменной фуражки глаза его были мертвы, как потухшие угли, в его светлых усах застыли жемчужины дождевых капель.
— Тебе здесь что надо, парень?
— Ничего, смотрю, — ответил Чарли и вдруг злорадно ухмыльнулся полицейскому, широко растягивая губы под мокрой щетиной.
— Убирайся, — сказал полицейский. — Иди домой. Ну, раз, два.
Что-то закипело в душе Чарли, и он спокойно сказал:
— Я только смотрю. Когда твоих упекают в тюрьму, разве нельзя смотреть?
— А-а, — произнес полицейский, и его усы задвигались. — Ты злостный, оказывается? — Его рука потянулась к наручникам на поясе, а спрятанные в тени глаза не отрывались от Чарли.