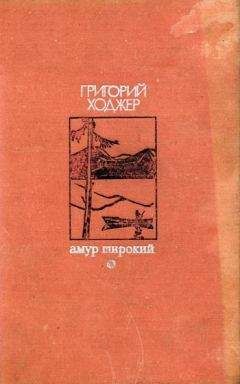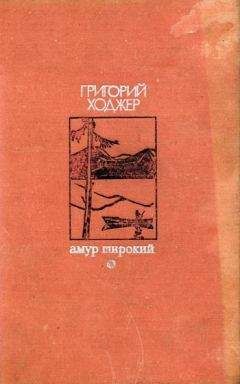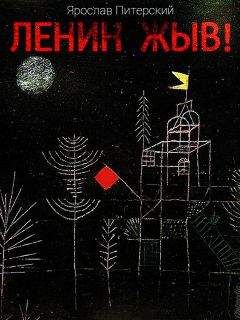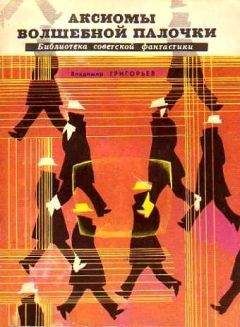Не выкурил Пиапон трубку, как ввалились первые гости. Разговор оборвался. Вошла Агоака, сестра Пиапона. Шаркнула ногой об ногу, будто снег стряхивала с олочей. Подсела к печи.
— Ты, Агоака, как ночная птица, — сказала Дярикта. — Всю ночь, видно, на ногах, у тебя уже все сварено, только гостей дожидается еда.
— Гости, — фыркнула Агоака. — Когда они были? Теперь люди живут в деревянных домах, у них очаги большие, полы деревянные, чонко[2] нет…
— Тетя, ты свое чонко травой давно заткнула, — засмеялась Хэсиктэкэ.
— Заткнула, что из этого? Холодно, потому заткнула. Что, из-за этого к нам нельзя приходить в гости? Проходишь мимо и нельзя заглянуть? Что, наша грязь пристанет к вам?
— Это к кому пристанет грязь? — вступилась Дярикта.
— Началось! — расхохоталась Хэсиктэкэ. — Папа, слушай, ты ведь давно не слышал, как тетя с мамой состязаются. Вот языки! Как листья тальника на ветру. Ха-ха!
Пиапон, Богдан и гости рассмеялись. Кто не знал в Нярги Дярикту и Агоаку! А они уже не слышали ничего, словно токующие тетерева.
— Я говорю, наша грязь к вам пристанет, — тараторила Агоака, — мы в фанзе живем, пол глиняный…
— Настели досок, кто за руки держит…
— Потому не заходит никто…
— Заходить не будут, если ты трубку не подаешь…
Пиапон рассмеялся и спросил:
— Мать Гудюкэн ты в гости зовешь?
— Как я посмею звать в гости, когда мимо проходят…
— Что у тебя? Талу нарезала?
— Талу из осетрины нарезала, пельмени на морозе…
— С этого и начала бы!
Агоака удовлетворенно сплюнула на золу перед дверцей печи.
— Ты всех зовешь?
— Сказала, да не знаю, придут ли.
— Будешь звать, как сейчас, кто придет? Надо ласково.
— Она хитростью берет, — сказала Дярикта.
— У тебя научилась, а то у кого же!
Дярикта зло сверкнула глазами, прикусила язык.
Агоака опять сплюнула. Теперь уже с негодованием. Она не могла простить Дярикте позора, который та навлекла на Пиапона, когда зайчонка[3] Миры пыталась выдать за сына ее замужней старшей сестры Хэсиктэкэ. Прошло больше восьми лет, вон Иванка какой уже, по грудь почти Богдану, а обида за любимого брата не проходит. А вместе с обидой и злость.
— Ради талы из осетрины в какой грязный дом не пойдешь, — сказал Пиапон, натягивая на ноги торбаса. — Богдан, ты разве не хочешь немного грязи из большого дома вынести?
— Дед, пить не хочу, — поморщился Богдан.
— Боится, — сказала Агоака, — думает, оженю его. Нет невесты, не бойся.
— Ты чего такая злая, тетя? — спросил Богдан.
— Рада, что не идешь в гости.
— Печенку осетровую оставила?
— Оставишь, когда рядом эти коршуны — Кирка да Хорхой.
— Не злись, иду.
Когда Богдан пришел в большой дом, там в сборе были все дети Баосы, зятья, внуки — полный дом.
Хорхой с Киркой посадили его за свой столик.
— В тайге ты совсем оброс, — сказал Хорхой, оглядев Богдана, — скоро косички вновь заплетешь.
В Нярги Богдан один был без косичек; когда он возвратился из Николаевска без кос, няргинцы подняли его на смех: «Что за голова у тебя, Богдан, точно обгорелая кочка. Ха-ха!» — «Богдан, за тебя ни одна девушка не выйдет замуж. Где твоя мужская красота!»
Только Пиапон да несколько юношей сочувствовали Богдану. Они хотели быть похожими на него, но боялись насмешек. Богдан предлагал им отрезать косы, обещал подстричь по-русски, по-городскому. Велик был соблазн, но юноши все же устояли. Сидят перед Богданом, красуются косичками. Хорхой завидовал расческе Богдана, все тетки пытались выманить у него ножницы и чего только не предлагали взамен.
— Нет, Хорхой, косичек у меня не будет. Поеду в Малмыж, там есть мастер, умеет стричь.
— Тебе хорошо, ты из города вернулся без кос.
— Какая разница, в городе отрезать или в Нярги?
— Совсем другое дело из города вернуться…
Гудюкэн, дочь Агоаки, подала чашку мелко нарезанной осетрины. Агоака поднесла Богдану водки в фарфоровой чашечке с ноготок.
— Пей. Что за нанай ты? Какой ты охотник? Косу отрезал, от водки морщишься, от женщин отворачиваешься. Пей.
Богдан усмехнулся, обмочил верхнюю губу в водке, вернул Агоаке. Та тоже помочила губы и вернула Богдану. Тот выпил.
— Если бы ты не выпил, я тебе подала бы, как подают русские, в кружке, и заставила бы выпить.
За соседним столиком засмеялись.
— Такая наша сестра, — сказал Дяпа. — Вредная.
— Большой дом на ней держится, — поддержал его Холгитон.
— Какой большой дом? Нет давно большого дома, мы с отцом Миры ушли отсюда, и не стало большого дома, — сказал Полокто.
Богдан расправлялся с талой, когда услышал рядом спор братьев. Говорил сперва Полокто.
— Удачная зима. Разве не так?
— Для нас удачная, — ответил Калпе. — Весной голодали, осенью хорошо зажили. Другие с охоты пустые вернулись.
— Я тоже мало добыл.
— Зато ты раньше всех вернулся и сено продаешь русским. Хорошо заработал.
— Мое сено лишнее, а у малмыжских нет сена, потому хорошие деньги дают.
— Ты всегда путаешь мое и наше. Сено косили все вместе.
— Я позвал вас, если бы не позвал, не заготовили бы.
— Все равно, сено косили, теперь деньги поровну!
— Отец Ойты, у русских совсем нет сена? — спросил Пиапон.
— Мало, коровы, лошади голодают, луга-то…
— Много продал? Есть еще сено?
— Зачем тебе? Продавать хочешь?
— Это мое дело! Есть сено?
— Есть! Есть! — закричал Калпе.
— Немного есть, а что? Ты скажи, зачем? Твоей лошади хватит, моим тоже.
— Дай одну лошадь с санями, за сеном поеду.
— Не даст он лошадь, — сказал Холгитон.
— Дам, вот возьму и дам! — закричал Полокто. — Возьми лошадь и сено возьми.
Пиапон поднялся, стал одеваться.
— Куда, ага? Погости еще.
— Вернусь, куда денусь. Богдан, Хорхой, Кирка, поехали со мной, — сказал Пиапон и вышел из дому.
Вскоре четыре подводы выехали из Нярги. Поздно вечером Пиапон с молодыми возчиками вернулся домой с пустыми санями.
— Где сено? — спросил поджидавший его Полокто.
— В Малмыже, — распрягая лошадь, ответил Пиапон. — У русских сена нет, коровы молока не дают, а русские дети без молока не могут жить.
— Сам знаю. Даром, что ли, отдал? Митрофану?
— Ему и другим, кто нуждался больше.
— Ты ограбил меня! Так тебе советская власть советует? Родного брата грабить советует?
— Советует…
— Тогда это не моя власть! Не хочу такой власти!
— Советует помогать нуждающимся, советует жить в братстве, — продолжал спокойно Пиапон.
— Тебе русские братья роднее, чем я, родной брат!
— Ленин так говорил, понял? В дружбе всем жить, помогать друг другу.
Полокто плакал пьяными слезами, проклинал Пиапона, злых духов просил наслать на него неизлечимые болезни. Старики слушали и качали головами, нельзя так, соромбори — грех!
Кто вспомнит о морозах, когда ласково греет солнце? Кто вспомнит о голоде, когда живот распирает от обильной пищи? Нет, никто не вспомнит — это знает Пиапон. Когда в амбаре навалом лежит пища, все домашние одеты и обуты, жизнь всем кажется счастливой и беззаботной. Спросишь любого, как он прожил жизнь, не задумываясь, ответит: «Хорошо». Лишь тот, кто всю жизнь хворал и из-за этого не видел солнца, не слышал песни воды и ветра, ответит, что плохо! Что про такого скажешь? Вздохнешь сочувственно, подумаешь: «Бедный человек. Судьба». Но стоит этому хворому встать на ноги, походить по тайге, поплавать по Амуру, и как бы бедно он ни прожил другую половину жизни, в последний свой день он скажет: «Хорошо жил», потому что он начисто забыл первую — плохую половину жизни.
«Живем сегодняшним днем, — думал всегда Пиапон. — Хорошо сегодня, значит, и жизнь хороша. Прошлое не хотим вспоминать, о будущем не хотим думать. Теперь другие времена, надо по-другому жить».
Но жизнь протекала, как и прежде, то убыстряясь, то замедляясь: убыстрялась она, когда одно событие за другим катилось, словно снежный ком с горы, и охватывало не то что одно стойбище, а несколько сел или даже весь Амур; за этим вновь наступал спад, и жизнь опять замирала. Старики тихо умирали, дети с криком рождались — все нормально, все правильно. Обыкновенная жизнь. Так и должно быть.
Но Пиапон не соглашался с такой размеренностью жизни. Что делать, как подталкивать ее? Какие придумывать новшества?
«Новая жизнь», — говорил он, и редко кто, кроме Богдана, понимал его. «Живем, и хорошо», — отвечали ему.
Верно, в Нярги теперь жили терпимо, не очень сытно, но и не голодно. Зима, последовавшая за той, в которую умер Ленин, была малоурожайна на зверье, охотники мало добыли пушнины, но голодать не голодали.