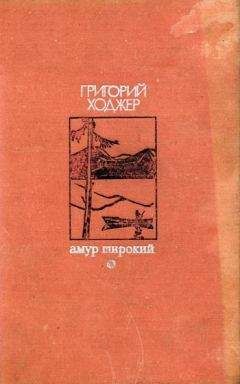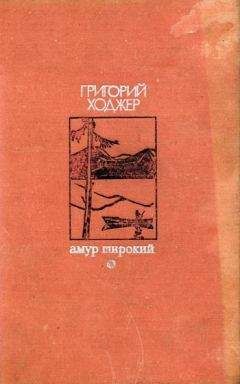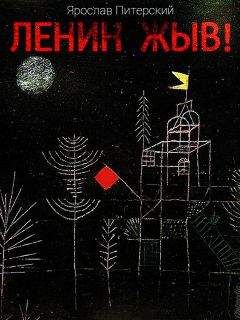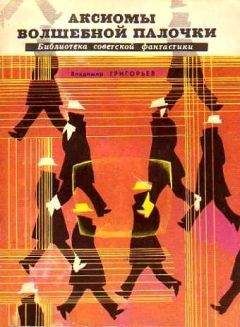— Ты остался в этом доме один мужчина. Так будь настоящим мужчиной, будь храбрым охотником, поддержи честь Заксоров.
Кирка молчал.
— Твой дед сейчас смотрит на тебя, он где-то тут. Он теперь только на тебя надеется. Тебе даром дают женщину, без тори дают. Возьми, не отпускай ее из дома Заксоров.
Юноша молчал. Калпе смотрел на сына и тоже молчал. Далда замерла возле очага.
— Она ваш человек, нельзя отпускать. За нее деньги уплачены…
Пиапон помнил, что за Исоаку никто ничего не платил, отец договорился с ее отцом, они обменялись дочерями. Когда Идари сбежала с Потой, отец сильно переживал, чуть не поссорился с отцом Исоаки. Потом они помирились, отец Исоаки наотрез отказался от тори и не взял ни денег, ни соболей.
Полокто тоже помнил все, он слушал Холгитона, и его нисколько не возмущало поведение старика, он был, наоборот, доволен, что старик обошел его — зачем ему пожилая Исоака, когда он собирается купить себе молодую жену?
Калпе с раздражением слушал Холгитона, несколько раз собирался оборвать его красноречие, сказать, что он передумал и берет в жены Исоаку. Но Исоаку уже предлагали его сыну, удобно ли отбирать жену у сына? Потому Калпе молчал, хотя ему было очень стыдно.
— Бери, Кирка, женщину, — сказал Холгитон тоном, не терпящим возражения. — Бери и живи с ней. Ты сердечный человек, ты не выгонишь из дому женщину. Дяйба скоро выйдет замуж, и ты вдвоем с женой заживешь. Ты ее полюбишь, она хорошая, добрая женщина, я ее с люльки знаю. А если захочешь жениться на другой, она не станет противиться, ты приведешь молодую жену. Чем плохо? Эх, когда я был молодой, почему мне не выпало такое счастье? А ты, Кирка, счастлив, без денег жену нашел.
Кирка молчал. Когда на нарах поставили столики, он лег на свое место и не поднимал больше головы. Подали на столик еду, водку.
— Оженили твоего сына, — сказал Холгитон Калпе. — Если собрал на тори, теперь можешь пропить.
А Пиапон добавил:
— Я думал, ты продолжишь, а ты отказался вдруг. Я бы продолжил, Исоака хорошая женщина.
— Тебе нельзя, ты председатель, может, что не так, кто знает, — возразил Холгитон.
— Сыновья мои продолжили бы, — сказал Полокто, — да жены у них хуже медведиц. Если бы привели они Исоаку, каждый день ссорились бы, дом весь перевернули бы.
— У тебя и так хватает ссор, — усмехнулся Холгитон.
— Верно. Но это я ссорюсь с женами, а что будет, когда дети еще начнут? Плохо будет.
Возвратился Хорхой, во время совета он отсиживался в доме Полокто. Узнав решение совета, он подошел к Кирке, лег и прошептал:
— Кирка, как мне теперь тебя звать, а?
Кирка размахнулся, ударил невпопад, но угодил в ухо Хорхоя.
— Охо! Ты уже бьешь меня, — засмеялся Хорхой. Кирка вскочил и выбежал на улицу.
— Чего это он? — удивился Холгитон. — Оженили его, радоваться должен, а он что?
Старик еще ничего не знал о любви своей дочери Мимы и Кирки. Влюбленные встретились. Всю ночь они провели вдвоем на конце острова, откуда когда-то, оттолкнув лодку, сбежали такие же влюбленные Идари и Пота. Мима с Киркой тоже думали о побеге, но куда теперь им бежать, где спрятаться?
— Никуда не сбежишь, — горестно шептал Кирка. — Кругом теперь одна новая власть.
— Раньше будто власти не было, — возражала Мима.
Раньше с этого места отчалила лодка Поты, он увозил украденную Идари, а теперь Мима уговаривала Кирку сбежать…
Пиапону казалось, что не пароход поднимается по реке, а Амур наползает на него, как какое-то живое существо, извиваясь, то сужаясь, то расширяясь. Мутная вода валилась навстречу, и тупой нос парохода едва раздвигал ее. Двигатели грохотали в железном брюхе, колесо шлепало позади, и весь этот необычный шум ласкал ухо Пиапона. Он был человек тихий, привыкший с детства к тишине, к таежному полумраку и не переносивший лишнего шума. Почему же теперь нравился ему этот железный грохот? Когда он прощался на берегу Малмыжа с Митрофаном, пароход ему казался обыкновенным, каких десятки плавают по Амуру. Но когда они сели в шлюпку, Богдан сказал, что пароход называется «Гольд». Вот тогда-то и проникся Пиапон уважением к этому пароходу, потому-то и нравился ему даже грохот его стального сердца.
— «Гольд» назвали, надо же, — повторял он который раз. — Почему так назвали?
Богдан этого не знал, но по привычке стал размышлять вслух.
— Есть пароход «Кореец», почему не быть «Гольду»? Советская власть уважает все народы, потому пароход назвали именем нашего народа. Царская власть не называла свои пароходы именем нашего народа, не созывала людей на большой разговор в губернский город.
— Да, ты прав, — вздохнул Пиапон.
Пиапон с Богданом ехали на первый туземный съезд Дальнего Востока, который созывало Дальневосточное бюро ЦК. Как только вскрылся Амур, в Нярги приехал Высокий, широкоплечий русский. Он немного говорил по-нанайски и объяснил, что в июне в Хабаровске созывается съезд туземцев, где будут решаться вопросы, как улучшить их жизнь. От нескольких стойбищ требовалось выбрать одного делегата. Собрались няргинцы, подумали и решили послать Богдана, так как он хорошо говорит по-русски, умеет читать и писать. Однако, хотя Богдан и грамотный, но молодой, и предложили ехать с ним Пиапону, потому что в серьезном деле старший советчик не помешает.
Приезжий, его звали Казимир Дубский, проехал по соседним стойбищам. В Болони, Хулусэне, Нижнем Нярги, Хунгари, Туссере охотники согласились с предложением няргинцев. Перед выездом Богдан с Пиапоном ездили в Хулусэн помолиться священному жбану счастья, беседовали с великим шаманом Богдано Заксором. Шаману не нравился Дубский.
— Глаза его недобрые, — сказал Богдано. — Расспрашивал меня, выведывал шаманские тайны, настойчиво выведывал. Зачем ему это знать? Не верьте ему, это нехороший человек. Отговорить вас не могу, люди вас посылают, но будьте осторожны, ты, Богдан, особенно.
Так напутствовал родственников великий шаман.
Пиапону Дубский, наоборот, показался забавным человеком, он поинтересовался женскими вышивками, берестяными изделиями, слушал легенды и сказки, все записывал. Глаза его были тоже забавные, зеленоватые, таких глаз Пиапону раньше не приходилось видеть. Правда, глаза Дубского не очень ласковы и походили скорее на зеленый лед или стекло.
«Гольд» резал тупым носом тугие амурские волны, равномерно шлепал колесом. Прибыли в Хабаровск вечером, а на следующий день открылся съезд.
Большое красное здание было разукрашено флагами, плакатами, зал утопал в кумаче, сверкали начищенные трубы оркестрантов. Все было необычайно торжественно и празднично. Пиапона сперва ошеломило такое обилие красной материи и портретов. Дубский собрал возле себя делегатов и гостей-нанайцев, среди которых было немало женщин. Пиапон познакомился со всеми делегатами-нанайцами: Михаилом Актанка из Сакачи-Аляна, с которым, как выяснилось при разговоре, был и раньше немного знаком; Яковом Актанка, Ганя Бельды из Сэвэки, Екатериной Удинкан из Тауди, Николаем Тумали из Пули. Повстречался и с родственником Алексеем Заксором из Толгона.
— Почему тебя Алексеем зовут? — спросил Пиапон. — Ты ведь Орока.
— По-русски назвали Алексеем, — улыбнулся Орока.
Казимир Дубский показывал пальцем на портреты и говорил:
— Это Калинин, он был в Хабаровске два года назад, он самый главный человек в советском государстве…
— Главнее Ленина?
Дубский, видно, поднаторел в агитационном деле, легко находил ответы на все вопросы, но его толкования были довольно примитивны, может быть, оттого что он подлаживался под своих слушателей.
— Это Смидович. Комитет Севера знаете? Большой Комитет находится в Москве, там Смидович возглавляет этот комитет. А это Сталин, он главный партийный…
Медные трубы отчаянно ревели, звенели тарелки, гремел барабан, весь этот необычный шум до боли давил на уши, кружил голову. Пиапон морщился и с наслаждением вспоминал железный грохот «Гольда». Там хоть и грохотали железки, но они дело делали, толкали пароход, а эти трубы для чего ревут?
Наконец замолкли трубы, делегаты, гости заняли стулья. Часы показывали восемь. В торжественной тишине открылся первый съезд туземцев Дальнего Востока. В зале сидели нанайцы, ульчи, удэгейцы, нивхи, орочи, тунгусы, не могли прибыть из-за льда и непогоды чукчи, эскимосы, коряки, ительмены.
Избрали президиум съезда, и, к великому удивлению Пиапона, его племянника Богдана посадили за почетный стол, обтянутый красной материей, рядом с большими дянгианами всего Дальневосточного края, Пиапон почувствовал, как радостно запрыгало сердце, тепло разлилось по телу.
Потом на возвышение поднялся Орока, которого теперь по-русски звали Алексеем.