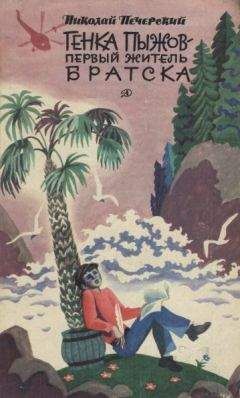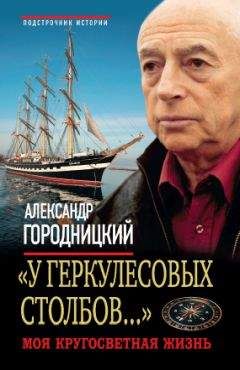— Говорят, ты и свои песни поешь.
— Бывает…
— Ты их наперед сочиняешь, или как?
— А не знаю. Сами они из меня выходят. Я после и не помню ни слова, даже жаль берет. Бывает, просят женщины: ту повтори, другую — про солдата без отца, без матери. А я и не могу. Попытаюсь — и новую спою, про это же. Люди хвалят: «Хороша и эта, а та все-таки лучше. И на мотив другой…»
Снова вечер. Снова на кухне стук, бряк и резкие женские голоса. Пахнет из кухни разваренной картошкой, луком, тлеющим торфом.
Трое мужчин сидят на корточках на обычном месте, у стены, давно сидят. Ивана Фокина уж и в комнату звали, причем обиженно, с ноткой укора: мол, дел невпроворот, а он разговоры разговаривает. Иван ответил: «Сейчас» и с тех пор успел еще цигарку выкурить, а так и не ушел. Жена его несколько раз пробежала на кухню и обратно, неизвестно зачем — в руках-то ничего не несла и при этом держалась очень прямо, закидывала маленькую свою головку и поджимала губы. Седелкин легонько толкнул Ивана локтем, показывая глазами, — мол, сердится. Иван тоже посмотрел вслед жене, усмехнулся холодно: мол, пускай.
— У тебя, выходит, талант, — сказал он Кеше.
— Уж не знаю, что, — смущенно пробормотал тот и покосился на шуйскую гармошку, что стояла возле. — Талант — это, наверно, когда угодно петь можешь. Артист, например, взял и запел. — Он виновато вздохнул. — А я не всегда могу. Вот и рад бы, а не выходит, второй уж день не выходит. Точно замок на душе. Или пуд лежит…
Василий кивнул крупной, в жесткой седине головой. Седел он странно — пятнами, что никелевой желтизной светились на его висках и затылке.
— Это у многих нынче. Кто без тяжести сердечной из войны вышел? Но надо жить, я так считаю, надо определяться… в свою часть.
Кеша оглянулся через плечо в комнату. Она, казалось, ждет кого-то, но не его. Над столом под лампочкой гнулась мальчишеская фигурка с русыми вихорками: Вова спешил выполнить письменные работы до прихода матери. Юра в торце коридора с другими детьми, помладше, строил из костяшек домино то воротца, башни, дома, то змейку и толкал крайнюю из них, и смотрел, как опадает вся змейка с рассыпчатым сухим стуком.
Плохо, не вышло с песнями. Василий еще вчера раздобыл шуйскую гармошку на третьем этаже. Хорошая гармошка, береженая. Кеша обрадованно взял ее в руки. Играл польки, вальсы, русские песни и военные. Дети сбежались со всего коридора, довольны были несказанно. Потом он пробовал подпевать гармошке. И женщины оставили дела — сошлись, слушали, похвалили, но Кеша-то чувствовал — не то, не так. Без души он пел, глуха и неподвижна была душа. Так иной раз в летний день калит-печет солнце, но само-то белой тусклой паутинкой затянуто, и не играет, не радует его свет. А тут еще Юра, чтобы перед другими детьми поважничать, спросил:
— Па… Дядь, ты навовсе у нас, правда? Ты научишь меня играть?
Права Шура — привязчивы дети, которые без отцов. Он всего несколько дней здесь, и сделал-то немногое — немудрящую игрушку наладил да поговорил приветливо, а уж младший готов его «папой» назвать, а старший, Вова, жаловался вчера на товарищей школьных, которые его обидели, отцовской защиты искал…
Иван, крякнув решительно, поднялся на ноги.
— Гляну пойду, чего я там понадобился, — сказал он и неспешно, слегка раскачиваясь на ходу, направился в свою комнату.
Седёлкин некоторое время сидел, и лицо его, широкое, плоское, с конопатинками, выражало глубокое раздумье, а взгляд был сосредоточен на большом пальце с толстым желтым ногтем, вылезшим из порванной тапки.
— Дее-ла, — произнес он, растягивая первый слог и предельно укорачивая другой. — Дее-ла… Я говорю — надо жить проще. Это там, на войне, всякую ночь задумывался, а теперь, чай, не последний день живем. Будет день — будет пища, так ведь?
— Можно и так, — не совсем охотно согласился Василий. — Нам-то с тобой что. Вот ему…
Василий не успел закончить — его позвала жена. Она вынесла две корзины белья, собралась полоскать, и муж должен был помочь ей донести их до реки и обратно. Кеша взялся было за гармонь, но Василий, заметив его движение, отмахнулся:
— Играй, я и завтра верну.
Кеша остался на своем месте, у порожка. Мимо деловито сновали женщины, дети, старухи — кто с улицы в дом, кто на кухню или к соседям. Они уже не задерживались перед ним, не косили глазами — привыкли. Кеша поднял гармошку с темного цементного пола на колени, насунул ушитый, потрескавшийся ремень на плечо и тронул басы и пищики, наклоняя голову к ребристым мехам и с удовольствием слушая, как там, внутри, гудит и звенит воздух в прорезях, полуприкрытых латунными язычками. Вроде бы и устройство-то самое простое — дырки, железки да планочки, а все, что ни поется в душе, обращает в звук, слышным делает для любого и каждого. Кеша пробовал один мотив, другой, и лицо его постепенно светлело, как у ребенка, который доволен и малостью, чтобы в печали забыться ненадолго.
Дети, что помельче, опять обступили Кешу — девочки в куцых или навырост платьицах, тусклых, потому что пошиты они из ношеных маминых платьев, мальчики в перекрашенных темных, синих, коричневых рубашках и штанишках на помочах, — бледненькие, ледащие и все же веселые росточки новой жизни. Кеша играл для них «Светит месяц» и «Во поле березонька стояла». Юра откровенно гордился им, встал, почти касаясь плеча, отдельно от сверстников.
— А ты научишь меня играть? — спросил он.
— Да сам научишься, — ушел от прямого ответа Кеша. — Вот подрастешь немножко. Дело немудрящее.
— И на базаре буду петь.
— Зачем на базаре? Вот пойдешь в школу…
Шуру он заметил лишь в тот момент, когда остановились перед ним ее боты, сухие и чистые, словно и не по улице совсем шла, а по такому же вот коридору.
— Ну, как вы тут без меня?
Кеша поднял глаза. На воротнике осеннего, запушившегося пальто, на плечах и груди ее блестели мелкие капельки. Пахло от Шуры свежим снегом, а лицо ее тоже было поразительно чистым, не то чтобы радостным, а ясным, спокойным. Она сняла пальто, повесила его в коридоре на гвоздик, потом размотала серенький теплый платок, «вязенку», так она его называла, сбросила боты с ног и прошла в комнату. Там остановилась возле старшего сына. Юра побежал за ней, ухватился за юбку.
— А дядя меня играть на гармошке научит…
Мать обернулась к нему, кивнула — мол, слышу, поняла, а лицо у нее все такое же ясное, невозмутимое. «Чему быть, тому быть», — решил Кеша и теперь уж только ждал, что она скажет, а скажет непременно, он это предчувствовал.
Ждать пришлось долго. Но вот кончили ужинать, легли дети — один на сундук, старший на кроватке, вымыта и поставлена в стол посуда. Шура задержала глубокий свой, ясный взгляд на Кеше, и лицо ее было все так же спокойно, лишь руки, которые она комкала у груди, выдавали ее душевную смуту.
— Я много думала о вас, — заговорила она. — Все прикидывала, куда вам теперь. Опять на базар да на вокзал вас выгонять совестно, а с другой стороны…
— Я понимаю, — помог ей Кеша.
— Вот и ладно, — а руки-то все комкались, одна тискала другую так, что белые пятна выступали на пальцах, — Есть у нас в первой смене обметчица оборудования, старушка, она тут недалеко живет. У нее дом свой, а муж и сын погибли. Она вас знает. Готова пустить. Вам у нее понравится.
— Спасибо, — сказал Кеша.
— Да что там, — вздохнула Шура. — А на фабрике есть работа для вас, тоже спокойная, надежная. Может, и песнями жить можно, я не знаю, но там зарплата — дачка и аванс каждый месяц. А работа не трудная… Я вас проведывать буду, уж не оставлю.
— Спасибо, — дрогнувшим голосом повторил Кеша. — Я все понимаю, но просить мне невмоготу, гордость какая-то дурацкая. Да и ходить надо, искать, а много ли я нахожу на таких-то ногах!
— Вот и ладно, — Шура улыбнулась и разняла руки. — Будем отдыхать. Завтра с утра дел у нас с вами! А на воле-то снег, меленький-меленький, сухо, свежо… Наверно, соскучали по воле-то?
— Есть немного.
— Hy, завтра уж нагуляетесь.
Еще на войне открылось Кеше, что хороших, дорогих его сердцу людей он встречает для того, чтобы терять их. Там, на фронте, это случалось с какой-то железной, неумолимой закономерностью, точно враг метил не вообще в бойцов, в любого из них, а выбирал как раз лучших, стремился их изничтожить в первую голову. Стоило Кеше сблизиться с кем-то, а таких было много и все люди храбрые, надежные, как его или пуля клевала насмерть, или жестоко калечила мина, или осколок снарядный доставал. А Кеша был привязчив, и каждая такая утрата сиротила его. Утрат было много, так много, что когда он в госпитале стал припоминать всех, кого хоронили там, где пали, или отправляли раненых в госпиталь, или оставляли на поле боя то ли мертвыми, то ли полуживыми, и такое бывало — иных он уже не мог назвать по именам или фамилиям, — безымянными смутными тенями прошли они перед ним.