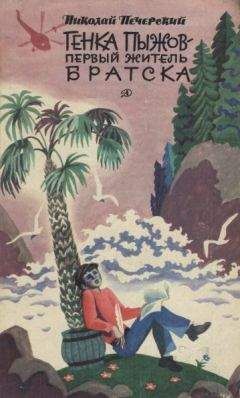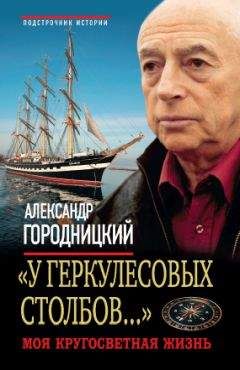— Удобная работа, — говорит Шура.
«Удобная, — думает Кеша и тускло усмехается уголками рта. — Жизнь удобная, грех жаловаться. А неподвижная, неподвижная…» Иной раз его страх берет, что этой работы хватит на всю его жизнь и ничего уж нового не будет.
В тягость это Кеше, в тягость, что один день монотонно повторяет другой. Если бы Федор был рядом, можно бы перенести, пожалуй, совсем бы успокоился. Но нет Федора. И много людей вокруг, и неплохие все, а нет близкого, нет такого, которому сказал бы: «Слушай, побудь вечерок со мной. Приходи домой ко мне — выпьем, поговорим…» Занятые все люди. Семейные спешат к своим семьям, холостые — к приятелям, подругам, им ли вечер с инвалидом тратить. Так думает Кеша и никого ни о чем не просит.
В пять вечера гаснет свет в кабинете мастера, и сам мастер, худощавый, лобастенький, подпрыгтвающей походкой шагает мимо Кеши, кивая ему. Кеша выключает свой станочек, снимает фуфайку с гвоздя и натягивает ее на плечи, нахлобучивает ушанку и тем же путем, через подъемник, оказывается на улице, где сине по-вечернему, по-зимнему и почти безлюдно: дневная смена вся уж прошла, а другая работает.
Сутулясь и напрягая плечи, Кеша толчками движется по каменке. Дорога здесь идет под уклон к фабрике, на работу ехать легко, а после работы все в гору. Он отталкивается колодками от земли и думает о том, что завтра повторится все сегодняшнее, повторится в каждой мелочи, словно он, Кеша, бродит по замкнутому кругу. Спокойно, что и говорить, но безрадостно. Безрадостно, когда в жизни нет нови, когда нечего ждать от завтрашнего дня, кроме монотонного повтора сегодняшнего. Это, пожалуй, и страшно, потому что плодит самую тяжкую тоску — тоску однообразия.
За воротами Кеша сворачивает в кривую узкую улицу. Едет долго. Встречные уступают ему дорогу, а он видит только их ноги в ботах, сапогах, бурках с галошами, делающие шаг в сторону. Стоит мягкий зимний вечер, и в нем — теплый запах ржаного хлеба, который люди несут в сумках и сетках, голоса детей, катающихся с горки, и женщин, что встретились на дороге и разговорились.
Кеша держит путь к одноэтажному, кирпичному, с облупившейся штукатуркой, зданию, над дверью которого темнеет вывеска «Дом крестьянина», а в коридоре толпятся пустые пивные бочки. Здесь он ужинает, здесь его узнают. Продавщица, толстая, разбитная баба, отпустив ему еду, уточняет:
— Примешь?
Он кивает, и продавщица наливает ему в граненый стакан из початой бутылки.
Кеша устраивается в уголке перед ящиком — столы для него высоки, и первым делом выпивает водку, точно больной лекарство, — с неохотой, но и с чувством, что это необходимо. Потом он ест щи, котлеты с картошкой, а водка тем временем начинает свое действие — разгоняет тепло по телу — и вот уж пожигает сердце, обволакивает душу, и душа медленно деревенеет и глохнет. Все беспокойства и сомнения смиряются в ней на время. Нет, грех жаловаться на жизнь. Вот он и «принять» может, сыт, одет, ухожен, насколько это возможно по нынешним временам…
В «Доме крестьянина» постоянно народ, все больше мужчины. Они приходят сюда не только за тем, чтобы выпить культурно, сколько посидеть вдвоем или втроем, поговорить. Может, и пьют для того, чтобы языки развязались, может, и у них щеколда на сердце.
Часы на воротах первой фабрики показывают восемь вечера. Время не позднее. Вот и мальчишки на коньках, с проволочными крючками, еще ездят по улице, ждут студебеккер или на худой случай лошадь, запряженную в сани, чтобы прицепиться сзади. И Кеша не прочь бы — устают руки.
Без приключений он добирается домой, слушает радио, часу в одиннадцатом кипятит чай и прочитывает маленькую местную газету. После двенадцати заводит будильник, выключает репродуктор и свет и засыпает.
Во сне он беззащитен, и снятся ему Федор, товарищи фронтовые, уцелевшие и погибшие, милая, светлая девушка Роза. Она обыкновенно утешает, успокаивает и обнадеживает неясным обещанием счастья. Товарищи фронтовые смотрят словно бы из великой дали — пристально, скорбно, молча. Федор грустно усмехается, качает головой в старой ушанке и говорит что-то. Слов не разобрать, но Кеша слышит в них сдержанный ласковый укор.
Но еще слаще, когда снятся его же собственные песни, когда как по волшебству он оказывается в немой и чуткой, кольцом обступившей толпе и чувствует, как песня сливает его с людьми, точно ручеек с рекой, сливает с ними в одно нераздельное, и сама крепнет от этого, полнится надеждой и верой, и надтреснутый голос его не плачет уже, не жалуется, а взлетает весенним жаворонком.
Это так же радостно, как бежать по веселому покатому лугу на резвых, легких ногах. Луг весь в разливах малиновой дремы и солнечной ромашки, он стелется под ноги текучим шуршащим ситцем все стремительней, все круче, словно уходит из-под ног, словно вот-вот прервется, и тогда Кеша начнет падать — плавно, невесомо, долго, как в детстве, далеко по ту сторону войны, когда он рос во сне…
О том, что Кеша уволился с фабрики, Шура узнала от Василия. Сначала не поверила: «Да неужто!..», но Василий не из тех был, что лгут ради шутки, и Шура, покраснев, взялась ладонями за щеки.
— А я-то с Нового года его не проведывала! Чай, подумал — забыла… Что же это он?
Шура не один раз в этот вечер пожалела и Кешу, и себя: «Вот уж закружила жизнь!» Жизнь действительно закружила ее. Вова, катаясь с горок на лыжах, упал неудачно и сломал ногу. Долго лежал в больнице. Шура извелась в тревогах за него. Нога-то срослась неправильно и опять ломали ее, теперь уж нарочно. А тут еще мать, одиноко жившая в деревне, занемогла, ослабла. Шура каждый выходной бегала к ней за тринадцать верст, но много ли она могла сделать за один-то день? В феврале, в сильную метель, двери избы так завалило снегом, что старуха не сумела их открыть. Лишь на третий день спохватились соседи, что ни следа ее на крыльце, ни дыма из трубы. Еле откопали, вошли уж со двора. Старуха лежала на кровати в выстывшем доме, почти закоченевшая, голодная. После этого случая Шура заколотила двери и окна избы досками и взяла мать к себе.
Что и говорить, забот хватало и больших, и малых. И то правда, что успокоилась она за Кешу, думала, теперь-то он устроен, лучше нельзя. И в самом деле, есть крыша над головой, работа, это главное, а остальное-то приложилось бы со временем.
Шура и не надеялась повидать Кешу еще раз, у него самого спросить, что случилось, почему он как ветром размел все, что выстроила она, чтобы и людям открыто в глаза глядеть, и за него, Кешу, быть спокойной. Но они встретились, почти на том же месте, где Шура заметила его ненастным октябрьским вечером, перед запертыми воротами, одинокого, в жару и ознобе.
Было это перед майскими праздниками, солнечным и синим апрельским утром. Шура прибежала на базар, чтобы купить что-нибудь вкусненькое на праздники, да и детям посмотреть обновы. Накануне она получила аванс, взяла с собой все деньги, только на квартплату отложила. На базаре было по-весеннему шумно, пестро, весело. У рядов, у телег и машин с товаром клубился народ, все больше женщины с фабрик, такие же богачки на день, как Шура, и бережливые до самоотречения в последнюю неделю перед получкой. Все обойдя и осмотрев, узнав цены, Шура стала покупать. Вспотевшая и поизмятая, без одной пуговицы на кофточке, с отощавшим кошельком, но полной сеткой, она наконец выбралась из толпы и осмотрела сетку. Мешочек с блинной мукой, пяток яичек («Слава богу, не раздавили в толкучке»), прядка лука, кусок молодой свинины, трусики, майки и носки для ребят, горшочек и плошка, тоненькая книжка с картинками для младшего, кулечек «монпасеек» — нет, ничего ее забыла, все есть. То-то будет радость ребятишкам! А что в кошельке поубыло, это ничего… Да, кошелек-от где? Ага, вот… Это ничего, у живых всегда убывает. Поднатянем остаточек. Может, и займем, не без этого. А вообще, жизнь поправляется, вон, какие все праздничные, точно на ярмарке. Зиму пережили, весну тем более проживем, а там лето-кормилец…
Шура вышла за ворота и услышала песню, которую надорванно и упорно выводил, поднимал усталый, дребезжащий голос. Песня была старая, знакомая, мучающая.
Горе горькое по свету шлялося
И на нас невзначай набрело…
Шуру как током ударило. Она только и сделала, что остановилась и повернула голову.
В сторонке от оживленного базара, на пустыре, стояла темная, скорбная кучка женщин и старух, а перед ней сидел Кеша, опять безвозрастный, тусклый, словно вылез он в этот весенний, сияющий день из пыльного, глухого угла. Он пел, тягуче подыгрывая себе на гармошке, наклонив обросшую голову к мехам. Ненужными, не в согласии с этим теплым, щедрым солнцем, с этой свежей зеленью показались Шуре и сам Кеша, и тоскливая его песня, и кучка женщин, сморкающихся в уголки вдовьих платков.
То ли смотрела она слишком пристально, огорченно, то ли Кеша случайно оборотился к ней, — так или иначе синий все еще, хоть и поугасший его взгляд остановился на Шуре. Она уж было и улыбнулась робко, и кивнула ему издали, но Кеша прикрыл глаза выпуклыми веками, отвернулся и приподнял обращенное к ней плечо, будто заслонялся им от нее. «Делает вид, что не узнал», — угадала Шура и глубоким, добрым, женским своим чутьем поняла, что должна пройти мимо, как будто тоже не признала, — должна, и ничего тут не поделаешь, ничего не поправишь.