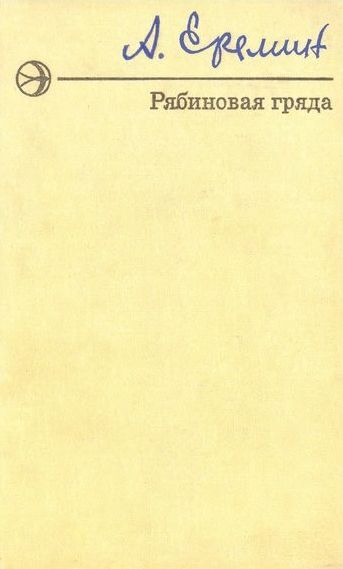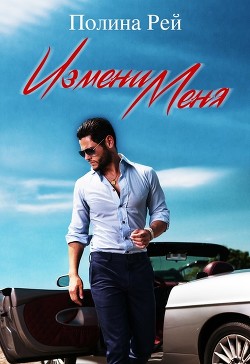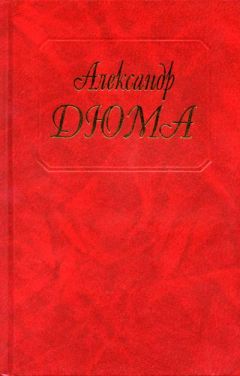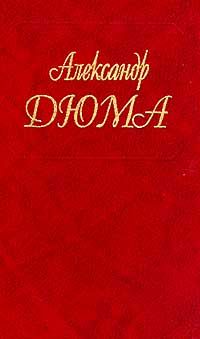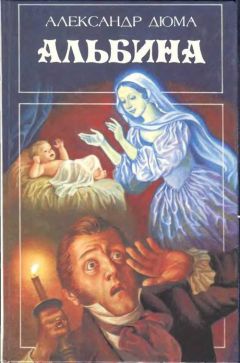на сносях ходит, на горе нерядовец горланит.
— Анна-то… Что родить ей приспело, в Нерядове ни одна душа не знала. Вчера еще усад пахала, нынче утром по воду на ключ бегала… Терпелива Ефимовна. Говорю, обрачилась бы, дуреха, сперва, расписку в Совете дали, потом родить. «А что, говорит, мамынька, толк-то один». Мамынькой меня честит.
— Толк известный, — ворчит отец. Заметно, что оттаял. — Младенец-то… парнишка, значит?
— Парнишка, — с готовностью поддерживает мама. — Большенький.
— Зыбка-то… вроде маловата?
— Ничего. С угла на угол положили.
Иван увез молодую к себе в затон. Я часто бывала у них, то по дороге в Кряжовск, то на обратом пути завертывала поглядеть на племянника. Как живут супруги, догадаться было не хитро: редкий их разговор не кончался злой, колючей перепалкой. Врозь они тянули в семейной упряжке. Не пара.
Иван добродушный компанейский весельчак, и в пляске отчаянный, и на гармони сыграть лихой. Женился — не переменился. Выйдет с гармошкой на берег, рванет ее так, что опояшет себя мехами, девки со всего затона табуном за ним хлынут. Ему и любо, той подмигнет, ту ущипнет.
Анна ни песен, ни зубоскальства не любила. Властная, нравом крутая, строгая, она хотела, чтобы и муж на людях держался степенно, с достоинством. Помнила она, как увивались около Ивана и нерядовские, и затонские, и даже кряжовские невесты, и считала себя удачливой и счастливой, что изо всех он выбрал ее. Одно мешало ее счастью, отравляло его: это опасение, как бы Ивана не отбила которая-нибудь из его прежних симпатий. Уверенная, что девки и бабы всей округи завидуют ей и ночей не спят, думают, как бы прельстить его, она ревновала до ярости, до сумасбродства. В затоне у нее были свои доглядчицы, и стоило ему перекинуться веселым словцом с накудрявленной конторской фифочкой или подмигнуть грудастой поварихе с буксира, Анна узнавала тотчас же и встречала его громом обличительной брани: и бабник он, и сатана блудливая, и кобель трехсучий…
На Первое мая приехали они к нам погостить. Заядлый рыболов, Иван убрел с удочкой и уселся на корме завозни.
Время обедать.
— Витюшк, — окликает мама и гремит у печи противнем, с которого только что сняла пирог. — Подь, зови Ивана.
Витька захлопнул книжку и кинулся к двери. Через минуту с какой-то застенчиво ядовитой ухмылкой встал у порога, заложил руки назад и потупился.
— Я не смею. С девкой он там. Целуются.
Анна сидела на лавке под окном и кормила грудью ребенка.
— Это чертушка мой с девкой? — вскрикнула она. — Держи-ка, мамынька. — Сунула ребенка маме и с незастегнутой на груди кофтой сорвалась с лавки. Я выбежала за ней. И верно, сидит Ивам в обнимку с какой-то кралей, оба спиной к нам. Не успели они оглянуться и руки разнять, налетела Анна и давай кулаками осаживать девку. Та завопила ребячьим голосом, что пошутили, скорее стащила с себя платок. Анна опешила: рыжий Володька. Тут и я узнала на нем свой платок и старенькую мамину кофточку.
Ничуть не смутило Анну, что стала посмешищем.
— Дура, на парнишку накинулась, — журил ее Иван. — Всегда вот так: не разобрав толком, кувалдами машешь.
— От тебя, чертушка, всего жди, — отбивалась Анна с притихшей грозой в голосе. — За тобой только гляди.
Весь обед мы пересмеивались, и тятенька на этот раз не грозил треснуть ложкой. Володька потирал ушибы на голове и плечах. Анна сидела умиротворенная, но в ее больших строгих глазах было такое выражение, словно она хотела сказать: «Поблуди у меня. Узнаю, на месте чертушку разражу».
Чертушкой называла она Ивана походя, и когда собиралась его разразить и когда была им по всем статьям довольна. Сначала неловко было слышать:
— Мой-то чертушка отличился, премию получил.
Потом привыкли: поговорка.
Осенью забежала я к мим по пути из Кряжовска, промокшая, просвистанная ледяным сиверком. Анна увязывала узлы, лязгала железными челюстями саквояжей. На мое изумленное «Далеко ли?» с важностью ответила, что ее Ивану Астафьевичу вышел перевод по службе и с повышением.
— Ценят моего чертушку, даром что вертопрах. В городе будем жить, в Кузьме. Да вот горе: тетеха я деревенская, слова по-городски не вывезу, все у меня выняй да восей. Как думаешь, Танюша, обыкну?
— Обыкнешь, — утешила я ее. — Поглядишь, как городские…
— Это уж я выгляжу. Все моды-наряды. Чтобы чертушка меня не стыдился, перманент себе накручу. Кто знает, может, его из Кузьмы да в Москву.
Бывая потом у них, я дивилась живучести привычек. Анна и перманент накрутила, и ногти красила, а все говорила восей и выняй, как от таких словечек не отрекалась.
Дальше Кузьмы они не двинулись.
11
Когда отец читал вслух какой-нибудь роман и доходил до любовных сцен, то умолкал и поводил в мою сторону белой бровью.
— Подь в чулан, посиди.
Я противилась, говорила, что не маленькая и просвещенная в этих делах, читала и «Нана», и «Плодовитость», и «Озорные рассказы». Мама вступалась за меня:
— Чего таиться от нее: невеста.
Тятенька упорствовал:
— Потому и не должна про всякое распутство слушать, что невеста. Слово само — чуешь! Не-веста, неведающая, значит.
Так и выпроводит меня. Сижу за переборкой, по обыкновению, вяжу что-нибудь, слышу, как он бубнит что-то, но не разбираю ни слова. Я уж привыкла к этому надзору и отношусь к нему без обиды. Да и смешно обижаться: все, что тятенька считает запретным для меня, сегодня же или завтра сама прочитаю. Мысленно поспоришь с ним, скажешь: «О своей бы нравственности заботился». Даже теперь, седой, заигрывает с бабами. Идешь с ним по кряжовскому базару, так и липнет к торговкам. Вечером покрестится перед сном и начнет вполголоса маме исповедоваться, с какой он еще бабой когда-то путался, распишет, какими прелестями она его в грех ввела.
— Вроде я тебе еще про самарскую Левтинку не говорил, что-то она из головы вон. Грешен, Маня, прости. Ежели не простишь, грех на тебе будет, так в Писании сказано.
Обезоруженная Писанием, мама возмущенно отмахнется:
— Молчал бы уж, старый пес.
Он и молится, как будто со знакомыми бабенками перешептывается: то Марью Египетскую о чем-то попросит, то с Евдокией-предлетницей посудачит, то к Аграфене-купальнице привяжется. Мама иной раз прислушается к его шепоту и не вытерпит:
— Что у тебя за Аграфенушка? Не Груньке ли кокшайской молишься?
Многое о тятеньке припомнишь, что в другое время стараешься не ворошить. Будто опять о его похождениях рассказы дяди Стигнея слышишь. Как он тогда, будто кнутом хлестнул: «Саврас без узды».
В уме невольно складывается обвинительная речь против тятеньки, прямая, резкая, но тут из-за стенки слышится его