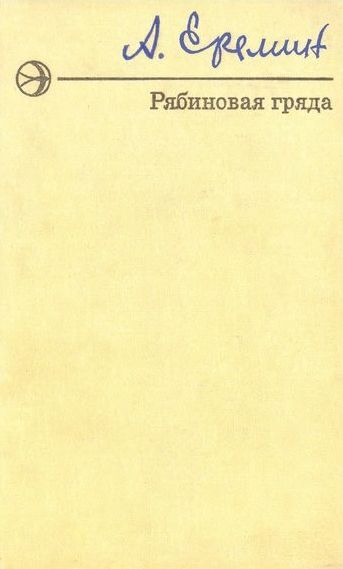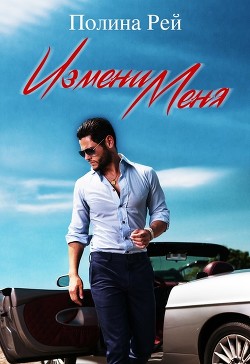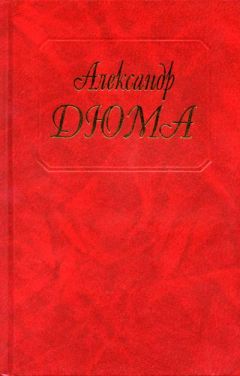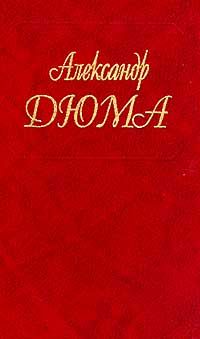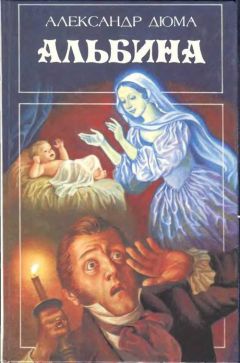выходи! Большой чин в пароходстве, собой видный, в делах оборотистый, какого тебе еще королевича ждать. У самого глаза масленые, мурлычет, русской красавицей зовет. Ты, говорит, для моего престижа будешь как сень пальмы для безвестного ручейка. Сдалась. Театральное ученье бросила. Поженились — и роем мужнина родня налетела. Отец, братья, дядья… До того ни одной души не видела, а тут они — каждый вечер. Гвалт подымут и все злобятся: того в руководство не выбрали, того чином выше не хотят ставить, у того сын на экзамене в институт срезался. Шушукаться начнут, как этого несчастного юношу все-таки протащить в институт, кому сунуть взятку, — не в армию же ему идти. Ну — жуки! — Лара возмущенно встряхивала кудряшками, а мне казалось, что это она играет роль недовольной.
— Шла бы назад, в общежитие, — сказала я. — Или… привыкла по коврам плавать? Та дорога не тянет?
— Что ее поминать, ту дорогу, — шепотом отозвалась Лара. — Сначала ребенок привязывал. Был он, мальчик. Только странное что-то: будто чужой. Умер от дифтерита. Поплакала, как если бы у соседей умер. Уйти решила. Куда? К режиссеру драматического торкнулась. Почитайте, говорит, что-нибудь. Выпалила в него монологом Джульетты, когда она в саду ждет Ромео. По глазам вижу, если и была у меня искорка, так погасла. Старая истина: искусство не прощает измены. Не простило и мне. Что оставалось? Престиж Петра прикрывать… как сень пальмы. И прикрывала. Чтобы угодить начальству, он — все козыри в ход. Я у него козырной дамой была. Так и шло. Я переживала, Муфелевы действовали. Сходятся, галдят, комбинируют, как что-то провезти, перепродать. На какой-то комбинации осечка. Застукали. Потом Петр каялся мне, что кого-то недподкупил, и всего-то две тысячи пожалел. Следствие. Попросторнело у нас в квартире, бутафории поубавилось. На суде вывернулся, а с места — в шею. Ладно, что хоть здесь приткнули. Тюрьмой пахло.
— Ну и пусть бы на баланде перевоспитывался. — Я хотела сказать это шутливо, но не могла сдержать раздражения. Меня разбирала злость на Лару: умная, талантливая— и прицепилась к какому-то слизню. — Не любишь своего Бонжура, так брось. Хочешь, завербуемся? И я бы тоже. Выберем мы с тобой самую великую стройку…
Лара потупилась и качнула головой.
— Какая из меня строительница! Разве, уж когда в Москву переедем, так что-нибудь…
Затею с моим ученьем она не бросила и прибегала к нам каждый день. Я уже знала, если у нее в руках «Фрегат Паллада» или «Вокруг света в восемьдесят дней», будет урок географии; «Ричард Львиное Сердце» или «Брынский лес» предвещали историю, «Плутония» или «Маракотова бездна» — археологию.
Приехал на каникулы Паня. В одной руке мандолина, в другой непомерной тяжести чемодан: мы с Витюшкой вдвоем чуть отделили его от полу. В нем оказались какие-то банки, ящик с блестящими кнопками и черный картонный круг с железным ободком. Радио. Такой круг я видела в Кряжовске в библиотеке. От восторга обняла Паню, умница, знал, чего здесь не хватает.
В тот же день от дома Петра Ильича к нашему протянули на шестах проволоку. Лара суетилась около Пани. Крикнет он Володьке или Витьке, чтобы подали ему молоток, изоляторы, еще что-нибудь, Лара спешит подать сама.
— Примите, Павел Астафьевич.
— Ой, боюсь, Павел Астафьевич, упадете.
Паня поставил ящик на столе в чулане, поколдовал над ним, и вдруг из черного круга полилась песня: женский голос, чистый, глубокий, хватающий за душу печальной нежностью, пел «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан». Мама ошеломленно крестилась.
— Господи, чудо-то!
Тятенька тыкал пальцами в кнопки приемника с таким видом, словно ему эта штука давным-давно была не в диковинку.
— Не чудо, мать: наука. Вроде шарманки, только крутить не надо. А эта сковородка, Павел, и речь может вести? Или одно тру-ля-ля?
Как раз в эту минуту черный круг звучно сказал:
— Говорит Москва.
Оказывается, все может.
В двери переламывается дядя Стигней и манит согнутым пальцем маму, окает.
— Ондревна, Павел, слышь, машину-самозвон привез? Дозволь слухну.
Тут же и тятенька, но Стигней, по обыкновению, обращается к маме, потому что считает ее в нашей семье самой главной.
— Иди, иди, — радушно и нараспев зовет мама. — Верно, что самозвон. Послушай.
Лара тоже тут, ей обязательно надо знать, какое напряжение в батареях, где плюс, где минус, и Паню зовет уже не по имени-отчеству, а Павлушей.
Увидела на стене мандолину, легонько тронула струны.
— А у меня гитара висит, бедная, и в руки не беру. Одной скучно.
Паня настраивает приемник и с лукавой прищуринкой косится на Лару.
— Гитаре скучно?
— Мне, — кокетливо ужимается Лара и вдруг словно укалывается о сердитый взгляд мамы. Равнодушно, с великопостным выражением добавляет: — Одной играть скучно.
Вечером вдали на пригорке под темными, как стога, рябинами долго ворковала гитара и словно изнемогала под напористой трелью мандолины.
Сыгрались.
Всего с неделю назад Паня писал, что дома собирается основательно поработать, перевести с немецкого сочинение по теории вероятности. И правда, на столе в чулане разложил было ученые трактаты, словари, бумагу — и больше не притронулся. Прибежит Лара, с минуту посидит со мной, спросит что-нибудь из прежних уроков и умычется с Паней рыбу удить.
Как-то разлетелась к нам в новом платье с голыми плечами, на шее бусы блестят-переливаются. Мама руками всплеснула.
— Это для кого вырядилась? Голая чуть не до пояса. Забыла, что мужняя жена. Охальница.
Лара снисходительно улыбнулась, взбила кудряшки перед зеркалом в простенке.
— Мода такая, Мария Андреевна.
Мне сказала, что заниматься сегодня жарко.
— Мы потом, Танюша. Поедем за Волгу, грибы, говорят, пошли.
Мама настрого запретила мне ехать.
— Рубаху Витюшке надо дошить. Гряды полоть.
— Тогда… — Лара вызывающе пощурилась на Паню. — Мы с Павлом Астафьевичем.
— И ему некогда, — отрезала мама. — Писать чего-то собрался, пусть пишет.
Тятенька, зашивавший наметку у окна, искоса поглядел на Лару, крякнул.
— Поезжай, Панька.
— Нечего ему там, — неуступчиво возразила мама.
— Найдет чего. Пошарит. Не зевай, Панька. Я в твои годы…
Паня, казалось, не слышал, побрякивал на мандолине.
— Хватит, — оборвал он родительскую перепалку. — Не семь по пятому. — Повесил мандолину на стену и вышел за выпорхнувшей Ларой.
Мы с мамой накинулись на тятеньку, стыдили, ругали сводником.
— Кто их сводил? Сами, — оправдывался он. — Такую ягодку и не хошь да щипнешь.
Мама устало отмахнулась:
— Поди втолкуй ему, седому козлу.
Из-за Волги наши гулены вернулись под вечер. Лара вальяжно шла домой, помахивая пустой корзиной. Павел отнес на двор весла, постоял, наверно, подумал, стоит ли просить у мамы поесть. Видимо, решил, не стоит, пилить начнет, и полез на сеновал спать. Я тоже забралась туда и пристала с